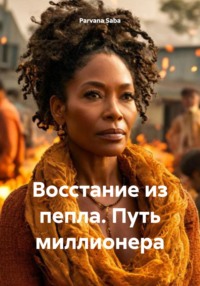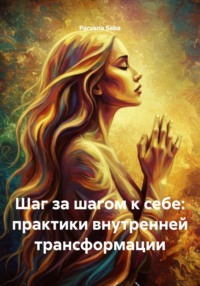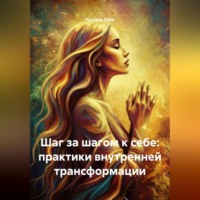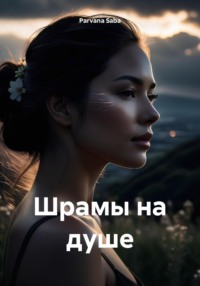Полная версия
Моя лучшая версия
Она чувствовала, что тело сопротивляется. Голова болела с двух сторон, как будто кто-то прижал виски к стеклу. Пульс сбивался, дыхание становилось тяжёлым. Но всё это было вторичным. Главным оставалось одно – голос, записанный в диктофоне, и правда, которая должна выйти наружу.
Её дело было почти готово. Осталось проверить два источника, уточнить юридические детали, свериться с Юлией. После этого – публикация.
А потом – всё.
Только тогда она впервые подумала: а если этого «потом» не будет?
день публикации, редакция, поздний вечер
Система работала. Проверка ссылок пройдена. Адвокат одобрил формулировки. Источники, чьи имена были замаскированы, подтвердили финальную редакцию. Дата, время, заголовок – всё выверено. Текст висел в системе на предварительной странице, ожидая одну команду: “опубликовать”.
Верена стояла над своим рабочим местом, как дирижёр над партитурой: каждый файл, каждый чат, каждый абзац в нужной позиции. Она не чувствовала усталости, только тепло в затылке, тугое, настойчивое – будто кто-то надавил изнутри, медленно, но с точностью хирурга. Она держалась за край стола, чтобы не разлететься: внутри было слишком много напряжения, как перегретый процессор под крышкой ноутбука.
Юлия подошла, положила руку ей на плечо. Не вопрос, не совет – просто прикосновение.
– Мы готовы, – сказала она. – Твой ход.
Верена кивнула. Перевела курсор на кнопку публикации. Вдохнула. Нажала.
На экране вспыхнула надпись: „Материал опубликован“.
Мир не взорвался. Свет не мигнул. Никто не аплодировал. Просто – наступила та самая тишина, которая бывает после долгой речи, когда зрители ещё не решаются хлопать. Только внутри всё гудело. Не голова, не сердце, а где-то глубже – как будто организм больше не понимал, зачем продолжать.
Она пошла по коридору редакции – не спеша, будто проверяя, удерживается ли равновесие. Стены двигались в боковом зрении. Звук голосов доходил приглушённо, словно сквозь воду. Пальцы дрожали – сначала указательный, потом большой. В груди – что-то сжималось, будто орган смялся в кулак. Она остановилась у автомата с водой. Нажала кнопку. Стакан упал, вода не полилась.
Пластик задрожал в пальцах.
Воздух стал резким, кислородным, как после разгерметизации. Пространство перестало быть плоским – оно стало размытым, будто стекло покрылось испариной.
И тогда всё замерло.
В последний миг она почувствовала, как мир сдвинулся на несколько градусов в сторону. Пол – не под ногами, а рядом. Стены – не вертикальны. Свет – слишком белый. Звук – слишком глухой. Тело стало слишком лёгким, а потом – тяжёлым. Сердце ударило один раз. Потом ещё. Потом ничего.
Тишина внутри.
Снаружи – бег, крики, холод пластика под затылком. Кто-то звал её по имени. Кто-то говорил: “дыши”. Кто-то держал её за запястье, считал пульс. И она слышала всё – но не могла ответить.
Она была где-то между. Не в обмороке. Не в снах. Не в теле.
В пустом, теплом промежутке между «до» и «после».
Очнулась она уже в машине скорой помощи. С потолка капал свет. Он мигал. Её трясло. Но не от холода. От какого-то внутреннего жара, будто изнутри выгорал резерв.
Фельдшер проверял давление. Женщина рядом держала её за руку. Голоса были чёткие. Лица – размытые.
– Вы слышите меня? Верена? Всё хорошо. Вы потеряли сознание. Мы едем в клинику. Всё будет под контролем.
Верена попыталась кивнуть. Голова повисла.
Она знала, что ничего уже не под контролем.
Позже, когда её укладывали в больничную палату, она смотрела в потолок, где белые панели казались клетками – будто в них спрятана какая-то чужая структура. Всё казалось не своим: ни простыня, ни запах, ни время. Её перевели в режим ожидания. В список. В категорию.
А ведь она только что выпустила правду.
Правду, за которую стоит платить.
Она закрыла глаза. Пульс был ровным, но внутри всё вибрировало – как после взрыва, когда ещё не ясно, что осталось целым.
И тогда пришла мысль. Тихая. Не первая, не последняя. Но очень чёткая.
"Если я уйду – кто останется?"
Глава 3. Обморок
Вечер в редакции становился похож на зыбкое море из голосов, шорохов, света экранов, звонких шагов по коридору. Пространство наполнялось невидимой дрожью, словно сама реальность вибрировала от напряжения. Верена сидела за своим столом, и пальцы её двигались по клавиатуре так же уверенно, как всегда, но каждый удар отзывался в теле будто лишним усилием, и в какой-то момент ритм работы стал неестественно плотным, болезненно тяжёлым, как будто каждое слово вытягивало из неё остатки дыхания.
Кофе в кружке остыл. Бумаги лежали ровным веером, но буквы уже не складывались в привычные узоры информации, они начинали расплываться, становиться пятнами, требующими усилия для того, чтобы соединить их в смысл. В висках нарастал тугой пульс, похожий на непрерывный сигнал, который не удавалось заглушить ни руками, ни водой, ни сосредоточенностью.
Юлия что-то сказала – слова долетели до неё, но они не зафиксировались в памяти. Казалось, что они принадлежат другому измерению, где люди продолжают говорить, пить кофе, печатать тексты, а она остаётся в одиночном коридоре, где стены всё ближе и ближе.
Шаги по этому коридору давались всё труднее. Каждое движение словно разрезало пространство пополам. Сердце внутри сжималось и расправлялось с неестественной силой, и она понимала: тело подаёт сигналы, которые невозможно игнорировать, даже если разум привык держать всё под контролем.
Она дошла до стеклянных дверей, и их прозрачность вдруг показалась ей чем-то обманчивым – за ними не было воздуха, только яркий свет, слишком резкий, чтобы быть настоящим.
В тот момент она почувствовала, как мир начинает терять опору. Стены качнулись, лица коллег стали плоскими и чужими, словно кто-то резко изменил фокус. Её руки дрогнули, в пальцах исчезла сила, и земля ушла куда-то в сторону, перестав быть поверхностью.
Она хотела вдохнуть, но воздух не подчинялся. Всё произошло сразу – не было ни времени, ни предупреждения.
Тело сложилось внутрь, как система, перегруженная запросами.
И в ту секунду, когда она рухнула, мир перестал быть многосложным: осталась только одна нота – гулкая, пронзительная, уводящая её в белизну, в пустоту, в тот промежуток, где нет ни прошлого, ни будущего.
Когда сила покинула её, и тело, лишённое сопротивления, обрушилось вниз, пространство вокруг превратилось в единую волну света и глухого шума, словно кто-то взял реальность и растянул её в бесконечность, убрав из неё все опоры и привычные линии. Она не почувствовала удара, как будто падение оказалось не столкновением с землёй, а переходом в другую среду, более мягкую и вязкую, в которой не существовало ни пола, ни стен, ни людей, окружавших её ещё мгновение назад.
Свет, встретивший её, был слишком ровным, белым и неподвижным, без теней, без привычных оттенков, лишённый любых примесей, которые делают мир живым, и именно поэтому он оказался тревожнее любой темноты, потому что в нём не было ни глубины, ни горизонта, ни границ, только сплошная плоскость, вытягивающая сознание, как бесконечный экран, на котором не загрузилось ни одного образа.
Звуки в этом пространстве тоже потеряли связь с источником: они доносились глухо и неразборчиво, но оставались частью единого пульса, напоминающего дыхание техники, электрический шёпот систем, которые работают сами по себе, не зависят от человеческой воли, а человек внутри них превращается в переменную, в деталь, в объект наблюдения.
Она ощущала себя подвешенной в этой пустоте, лёгкой и в то же время чужой самой себе, словно её тело продолжало где-то существовать, но оно больше не принадлежало ей, оно стало оболочкой, оставленной позади, и лишь тонкая нить связывала её с этим телом, нить, которая могла оборваться в любую секунду, если бы этот равнодушный белый свет решил, что хватит.
В какой-то момент память откликнулась, и в этом белом пространстве начали проступать зыбкие силуэты – лицо сына, его дыхание, его рука, тянущаяся к ней во сне, утренняя чашка кофе с корицей, слова, которые она ещё не успела сказать, и каждое из этих воспоминаний возникало не как картинка, а как ощущение – тепло кожи, горечь напитка, дрожь в голосе. Всё это переплеталось с белым светом, образуя зыбкий поток, из которого нельзя было вырваться и который нельзя было удержать, потому что он тек сквозь неё, как вода, оставляя за собой пустоту.
Она пыталась ухватиться за этот поток, удержать хотя бы одно ощущение, один звук, один запах, но всё ускользало, растворялось, и оставалась только мысль, пронзившая её яснее всего: если в этом свете исчезнут воспоминания, тогда исчезнет и она сама, и не останется даже следа того, что кто-то когда-то жил.
Когда в палате стало тише и шаги врачей растворились за дверью, Верена осталась наедине с тьмой, которую не могла скрыть даже белизна потолка. Аппарат у изголовья ровно отмерял секунды, но её внутренний ритм шёл вразнобой, сбиваясь, словно сердце перестало подчиняться общему порядку и жило своей непостижимой логикой.
Она не спала, потому что сон казался ей слишком близким к исчезновению. Лежать с закрытыми глазами означало довериться пустоте, а пустота после сегодняшнего падения обрела пугающую конкретность. Поэтому она смотрела в темноту и ловила каждый шорох: хлопанье двери где-то в коридоре, скрип колёс каталок, шёпот дежурных медсестёр. Всё это напоминало ей, что за тонкими стенами продолжается жизнь, но её собственная жизнь в этот момент стояла на границе, словно готовилась пересечь черту, которую уже невозможно будет вернуть назад.
Образы всплывали сами: детский рисунок на стене кухни, лицо Лео в утреннем свете, запах корицы в кофе. Эти картины не шли одна за другой, как обычно в памяти, а возникали обрывочно, и в этом обрыве чувствовалось предупреждение – как будто сама память начинала дрожать, готовая рассыпаться.
Она прислушивалась к себе и впервые признала: то, что произошло, нельзя объяснить лишь усталостью. В глубине тела возникла тёмная тяжесть, тихая и непреклонная, как присутствие чужого гостя, поселившегося навсегда.
Слова врача днём прозвучали безобидно, но между строк слышалось другое. Она чувствовала: впереди разговор, который изменит весь порядок её жизни.
Она подняла руку, посмотрела на браслет с именем и впервые ощутила его как знак, что её история уже переписана в ином регистре. Не журналистка, не мать, не жена. Пациент. Переменная в чьих-то записях.
И именно в эту ночь внутри нее зародилась мысль, от которой не было спасения: если тело предаст, нужно придумать способ остаться в другом измерении, за пределами кожи и костей.
Рассвет пробрался в палату бесшумно, растворив ночную стерильность в мягком серебре. Белизна стен и потолка больше не казалась безликой, она обрела глубину, оттенки утреннего света, но в этом свете не было облегчения. Он напоминал холодную воду, от которой пробуждаешься неохотно, понимая, что день готовит испытание.
Верена проснулась раньше обычного, хотя и не спала по-настоящему. Тело отозвалось ломотой, как будто каждая клетка несла память падения, словно она рухнула не только в редакции, но и внутри себя. Руки стали чужими, движения медленными, и даже простое желание подняться превратилось в усилие, требующее сосредоточенности.
В коридоре слышались быстрые шаги, стук тележек, голоса, сливавшиеся в поток, похожий на речной шум. Иногда издалека доносился короткий смех, и этот смех звучал так, словно он принадлежал совсем другому миру, миру, где люди продолжают спешить на работу, обсуждать встречи, строить планы. Здесь же планы переставали существовать: всё было сведено к расписанию анализов, обследований, визитов врачей.
Медсестра вошла с лёгкостью, будто растворила воздух. Она улыбнулась – вежливо, но профессионально, и её улыбка напоминала часть формы, такой же обязательный элемент, как браслет на запястье. Несколько коротких движений: измерение давления, проверка капельницы, уточнение самочувствия. Она произнесла фразу, которая прозвучала буднично:
– Вас ждут на обследование через час. Подготовьтесь.
И эти слова, простые и обыкновенные, легли в сознание тяжёлым камнем.
Верена кивнула. Она понимала: впереди рентген, анализы, разговоры, протоколы. Всё это ещё не приговор, но уже предвестие. Мир, который вчера вечером казался подвластным её воле, теперь превратился в структуру, где она зависела от чужих решений.
Она посмотрела на окно. За стеклом виднелась линия деревьев, еще влажных от утреннего дождя. Этот вид казался ей слишком живым для того места, где она находилась, и потому особенно ценным. Она поймала себя на мысли, что хочет запомнить каждый оттенок листвы, каждую каплю на ветках, словно эти детали могли стать защитой от будущих слов врача.
Маркус ещё спал дома, и в этом было что-то странно символичное: его мир продолжал идти по расписанию, тогда как её мир был остановлен в этой палате.
И внутри неё медленно крепло ощущение, что сегодня начнётся отсчёт.
Коридоры больницы открывались перед ней как длинные галереи из стекла, белизны и холодного света. Каждое движение каталке, которую катили медсёстры, отзывалось в ушах ритмом колёс, и этот ритм казался слишком уверенным, словно сам путь уже заранее начерчен, и любая остановка лишь временная иллюзия. Запахи дезинфицирующих растворов были плотными, настойчивыми, они проникали глубже, чем хотелось, и Верена поймала себя на том, что вдыхает их так, будто пытается запомнить каждую ноту этой стерильной симфонии, ведь всё это уже часть её новой реальности.
Кабинет встретил её не голосами людей, а голосами машин. Монотонное гудение, равномерное щёлканье, мерцающий свет экранов – всё было устроено так, словно сама техника наблюдала за ней, изучала её изнутри, фиксировала каждую тень, каждую дрожь, каждую скрытую тайну, спрятанную в глубине тканей. Когда её уложили на холодную поверхность аппарата, она ощутила, как тело сопротивляется этой неподвижности, но сознание подчинилось, понимая: сейчас сопротивление не имеет силы, сейчас главное – довериться процедуре, которая видит больше, чем видит глаз.
Мир вокруг превратился в круги и импульсы. Шум прибора был не просто звуком, он становился внутренним резонансом, пробирался под кожу, отзывался в костях. В эти минуты она словно утратила границы и превратилась в систему сигналов, которую можно расшифровать, перевести в цифры, в изображения, в диаграммы. И мысль об этом была пугающе холодной: её жизнь, с её воспоминаниями, текстами, любовью к сыну, могла оказаться сведённой к графикам и снимкам, лежащим на столе врача.
Когда обследование закончилось, её снова вывезли в коридор. Свет здесь был ярче, чем хотелось, и лица прохожих, занятых своими делами, казались масками – каждый спешил, каждый жил в собственном ритме, но она ощущала себя вырванной из общего потока, существом, остановленным в отдельной линии времени.
Врач, высокий мужчина в очках с тонкой оправой, встретил её в кабинете рядом с лабораторией. Он держал в руках первые результаты – тонкую папку, которая в его руках выглядела легкой, но для неё имела вес судьбы.
– Первичные данные указывают на необходимость более глубокого обследования, – произнес он спокойным голосом, лишенным эмоций, как будто говорил не о её теле, а о постороннем объекте. – Мы видим изменения, требующие уточнения. Я рекомендую дополнительные анализы и консультацию с коллегами.
Эти слова звучали сухо и деловито, но в их нейтральности уже чувствовалась скрытая тяжесть. Он не произнёс диагноза, но сама пауза между его предложениями, его взгляд, уходящий в сторону, когда он говорил о «необходимости уточнения», говорили громче любого медицинского термина.
Верена сидела прямо, слушала каждое слово и понимала: за этой осторожной формулировкой стоит правда, которую он ещё не готов озвучить.
Она поблагодарила его коротким кивком и вышла. Коридор снова принял её, но теперь стены казались выше, а воздух плотнее.
Верена вернулась в палату после обследования, и пространство вокруг будто переменилось: та же кровать, тот же аппарат у изголовья, те же ровные стены, но всё это уже не принадлежало к прежнему миру, оно стало декорацией для нового состояния, в котором каждое движение, каждый взгляд медсестры, каждый шорох за дверью обретал другой смысл. Она лежала с открытыми глазами, слушала мерное капанье раствора и понимала: внутри неё родилась тайна, которую ещё нельзя произнести вслух.
Слова врача продолжали звучать в памяти – сухие, выверенные, осторожные, но именно в их осторожности чувствовалось то, что пока скрывают: опасность, которая не исчезнет сама собой. Она понимала, что за мягкими формулировками скрываются данные, уже зафиксированные на снимках, и эти снимки принадлежат её телу, её будущему.
Ей позвонила сестра. Экран телефона светился на тумбочке, вибрация звала её к жизни, но она не взяла трубку. Она смотрела на имя, и сердце дрогнуло, но рука осталась неподвижной. Клара услышала бы в её голосе тревогу, сразу потребовала бы объяснений, и этот разговор разрушил бы хрупкий барьер, который сейчас защищал её от окончательного признания.
Она закрыла глаза, прижала ладонь к груди и сказала себе: ещё рано. Пусть это останется внутри, пока она сама не научится смотреть в глаза этому слову, которое врачи ещё не произнесли.
И вместе с этим решением в её сердце поселилось молчание – тяжёлое, но необходимое.
Этим молчанием закончился её первый день после обморока.
Глава 4. Клара
Вечерние сумерки опустились на город медленно, превращая окна больницы в зеркала, отражающие оранжевые блики фонарей и торопливые силуэты прохожих. Верена лежала в палате, прислушиваясь к этому изменению света, когда дверь распахнулась так стремительно, будто за ней скрывался вихрь.
В палату вошла Клара. Её шаги звучали слишком громко для этого стерильного пространства, её дыхание было сбивчивым, а взгляд сразу искал сестру, не замечая ни приборов, ни белизны стен. На ней было длинное пальто, непривычно небрежно накинутое, волосы растрепались от спешки, и в каждом её движении чувствовалась та энергия, которой всегда не хватало Верене.
– Ты решила ничего не говорить? – спросила Клара сразу, не сдерживая голоса, и её слова прозвучали как выстрел.
Верена попыталась улыбнуться, но улыбка вышла слишком слабой.
– Это просто усталость, – произнесла она ровно, будто заранее готовила эти слова.
Клара опустилась на край кровати и схватила её за руку. Её пальцы дрожали, но в этой дрожи была сила – она словно пыталась удержать сестру от падения в бездну.
– Усталость не заставляет падать в редакции, – сказала она, глядя прямо в глаза. – Я видела твой взгляд, даже по телефону слышала, что ты скрываешь. Ты всегда думаешь, что справишься одна.
Верена не ответила сразу. Она смотрела на лицо сестры и ощущала, что в этом лице собрана вся их история: обиды детства, совместные тайны, редкие, но искренние объятия. Клара всегда была зеркалом её скрытых чувств, той стороной, которую она прятала в себе.
– Мне нужно время, – наконец сказала Верена, и голос её был мягким, но твёрдым.
Клара наклонилась ближе, и в её глазах блеснули слезы, которые она не пыталась скрыть.
– Время не лечит, оно уходит, – прошептала она, и в этих словах не было упрека, только отчаянная верность.
В палате воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным звуком капельницы. Сёстры сидели рядом, и в этой тишине впервые за долгое время Верена позволила себе почувствовать опору, пусть даже зыбкую, но настоящую.
Больница постепенно погружалась в сон, и даже свет в коридорах стал мягче, будто лампы уступили место полумраку, в котором шаги медсестёр превращались в лёгкий шелест, а голоса исчезали, оставляя лишь равномерный гул аппаратов. В этой приглушённой тишине палата напоминала отдельный мир, отрезанный от всего города, и этот мир принадлежал только им двоим.
Клара сидела у изголовья кровати, положив локти на колени, и её лицо освещалось узким лучом ночника, отчего черты казались резче, а глаза темнее. Она молчала дольше, чем обычно, и в этом молчании чувствовалась буря, готовая вырваться наружу. Верена наблюдала за ней, понимая, что сестра борется с собственным страхом и что её молчание не означает покоя, оно означало напряжение, которое вот-вот превратится в поток слов.
– Ты думаешь, я не чувствую? – наконец сказала Клара, и голос её прозвучал тихо, но с такой силой, что каждое слово оставляло в воздухе след. – Когда ты не отвечаешь на звонки, когда пишешь короткими фразами, я слышу в них холод, будто ты прячешь за ними целый океан.
Верена вздохнула, отводя взгляд к окну, где ночное небо отражалось в стекле, и там, среди темных облаков, мерцал одинокий свет самолёта, будто напоминание, что где-то за пределами этой палаты мир продолжает движение.
– Я не хочу, чтобы ты жила этим страхом вместе со мной, – сказала она, и её слова тянулись медленно, словно каждая буква весила слишком много. – Ты слишком яркая, слишком живая, чтобы носить мою тяжесть.
Клара наклонилась ближе, и её волосы коснулись руки Верены, запах дождя и табака смешался с больничным воздухом, привнося в него нечто острое и земное.
– Ты моя сестра, – произнесла она так, будто этим утверждением можно было разбить любую стену. – Я никогда не уйду в сторону. Даже если ты решишь молчать, я всё равно буду рядом, потому что мне не нужно твое разрешение, чтобы любить тебя.
Эти слова ударили в сердце Верены сильнее, чем любые медицинские прогнозы. Она закрыла глаза, и внутри неё возникло странное чувство: будто любовь сестры не спасает от боли, но превращает ее в пространство, где можно дышать, пусть и тяжело.
Тишина снова заполнила палату, но теперь она не была пустой. В этой тишине звучало дыхание двух женщин, переплетённых одной кровью и общей историей, и даже стены, казавшиеся холодными, стали напоминать крепость, удерживающую их внутри.
Рассвет прокрался в палату мягким золотистым светом, и стены, обычно безликие и ровные, впервые приобрели тёплый оттенок, будто ночь смягчила их строгость. Верена лежала, прислушиваясь к звукам пробуждающейся больницы: звон тележек, хлопанье дверей, быстрые голоса персонала. В эту утреннюю суету вплёлся особый акцент – шаги Клары, быстрые, уверенные, с той энергией, которая не позволяла им быть фоном.
Она уже успела встать раньше сестры, пройтись по коридору, найти дежурную медсестру и начать разговор с тем напором, который всегда отличал её от других. Верена слышала обрывки фраз через приоткрытую дверь: резкие вопросы о результатах анализов, требовательные уточнения насчёт расписания процедур, настойчивый тон, который не оставлял собеседнику возможности уйти в вежливые отговорки.
Когда Клара вернулась, её лицо было вспыхнувшим, а глаза сияли так, будто она выиграла спор, хотя речь шла о простых медицинских формальностях. Она поставила на тумбочку стакан с водой, поправила подушку и села рядом, не скрывая своей бурной решимости.
– Они слишком спокойно говорят о твоём состоянии, – заявила она, словно продолжая спор с медсёстрами. – А мне нужны не спокойные слова, а чёткие факты. Я не позволю, чтобы тебя держали в неопределённости.
Верена улыбнулась этой горячности. Внутри улыбки не было иронии – только благодарность за то, что рядом есть человек, готовый бросить вызов всему миру, когда сама она предпочитала хранить молчание.
– Ты всегда любила устраивать революции, даже когда дело касалось школьных отметок, – тихо сказала она, и в памяти вспыхнула картинка: Клара в детстве, держащая дневник и кричащая учительнице о справедливости.
– Я не люблю революции, – возразила Клара, поправляя волосы с привычным резким движением. – Я просто не выношу, когда прячут правду.
В её словах звучала простота, но в этой простоте была сила, которая могла удерживать целые стены.
Верена смотрела на нее и понимала: сестра, вспыльчивая и упрямая, становится тем щитом, которого не построишь из собственных слов. И в этой защите было что-то бесценное – словно рядом с ней она могла позволить себе на мгновение ослабить контроль, не боясь, что мир развалится окончательно.
День уже вступил в силу, и в больничном дворе воздух был наполнен запахом влажной земли и лёгкой прохладой, оставшейся после ночного дождя. Дорожки блестели, листья на деревьях сверкали каплями, и всё это создавало ощущение жизни, которая не подчинялась ни диагнозам, ни аппаратам, ни строгим протоколам врачей.
Клара шла рядом, чуть впереди, с тем же стремительным шагом, который словно рвал пространство на части, и её пальто развевалось позади, как знамя. Верена медленно двигалась следом, чувствуя, как каждый шаг даётся с усилием, но при этом наполняет лёгкие свежестью, которую невозможно найти в стенах палаты.
Они остановились у лавки, и Клара первой заговорила. Её голос дрогнул, хотя обычно в нём всегда звучала сила.