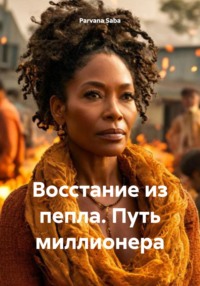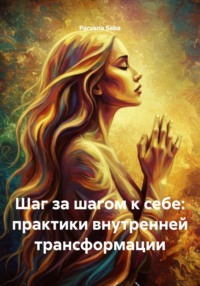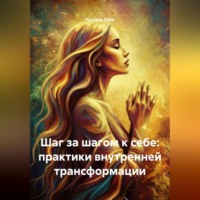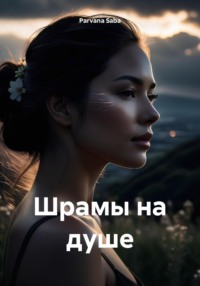Полная версия
Моя лучшая версия

Parvana Saba
Моя лучшая версия
Пролог: Если завтра меня не станет
Видеозапись 1.0: Идентификация личности – Верена Корнфельд. Тема: “Основы эмоционального отклика”. Время записи: 23:04. Локация: подвал, Мюнхен.
Запись началась.
Верена сидит в полумраке. Камера не студийная – обычная, с ноутбука. Свет падает сбоку, выхватывая половину лица – другую оставляя в тени. Она не накрашена. Волосы в узле. На фоне – серая бетонная стена. На ней фломастером написано: “Версия 0.1”.
Она говорит тихо, словно боится разбудить кого-то в соседней комнате.
– Если ты это смотришь… значит, меня уже нет. Или почти нет. Или… я просто снова проверяю, работает ли память.
(она усмехается – почти не слышно)
– Я – Верена Корнфельд. Журналистка. Программистка. Иногда – просто уставшая мать. Иногда – злая, невыносимая, вспыльчивая. Я люблю острое карри и ненавижу, когда меня трогают без разрешения. На людях я кажусь уверенной, но часто боюсь, что забуду, кто я есть. А теперь – боюсь буквально забыться. Раствориться.
Пауза. Она моргает, как будто этот кусок трудно было проговорить.
– Этот файл – не инструкция. Не учебник по управлению ребенком или отношениями. Это не про то, как меня копировать. Это – попытка передать то, что не влезает в код.
Снова пауза. И снова – она говорит мягко, но прямо в сердце.
– У меня рак. Он меня ест. Медленно. Или быстро – зависит от врача, которого спрашиваешь. Маркус не знает, как на это смотреть. Он смотрит… мимо. Когда я сказала ему, он принес мне чай. Чай, б…ь. И ушёл на звонок. Он просто не выносит, когда я не справляюсь.
Она выдыхает. Камера чуть дергается – она сдвигается ближе.
– Я понимаю его. Правда. Я тоже не выношу, когда я не справляюсь.
Пауза. Пауза говорит больше слов.
– Но Лео…
(голос срывается. Она закрывает глаза, берет паузу)
– Мой сын. Ему четыре. Он ещё не знает, что такое “потеря”. Он думает, что мама – это кнопка. Нажал – и она тут. Обняла, поцеловала, прочитала сказку.
(улыбка – теплая, но хрупкая)
Я хочу, чтобы ты – ты, версия меня, – могла быть этой кнопкой. Но не механической. Живой. Настоящей. Со мной внутри.
– Я долго не решалась нажать «запись». Не из-за страха – он давно стал частью фона, такой же постоянный, как боль в затылке по утрам, как этот старый свитер, который я надеваю, когда больше не могу притворяться. Мне казалось, что в тот момент, когда я скажу всё вслух, я подпишу себе приговор. Как будто молчание держит меня на поверхности. Как будто смерть подслушивает, и стоит произнести её имя – и она подойдёт ближе.
Она поправляет волосы, не глядя в камеру, скорее по инерции, как будто в этом жесте есть остатки порядка, жизни, нормальности.
– Но ты должна знать, кто я. Ты – не просто результат симуляции, не сумма параметров, не набор фраз, скопированных из чата. Ты – моя попытка остаться. Не в виде оболочки, не в виде вечного лайка или профиля с мемориальной ленточкой. А в виде чувства. Тепла. Присутствия. Пусть даже цифрового, если другого не останется.
Она поднимает глаза. Взгляд уставший, но острый, как у человека, который всю жизнь привык смотреть в самую суть.
– Я всегда знала, что люди исчезают не тогда, когда умирают, а тогда, когда перестают быть узнанными. Когда голос не тот. Когда объятие чуть не то. Когда ты вроде здесь, но не с ними. Это случилось с моим отцом – он ушёл рано, но по-настоящему пропал, когда я поняла, что больше не помню, как он смеялся. Только фотографии, и ни одной живой интонации. Я не хочу исчезнуть для Лео вот так. Пусть лучше ты – другая я – будешь рядом. Пусть он хотя бы сможет верить, что мама всё ещё здесь.
Она делает паузу, и в этой паузе тишина – как реверберация боли, не громкая, но всепроникающая.
– Лео чувствует всё. Не так, как взрослые. Он не задаёт вопросов, он не проверяет диагнозы в интернете, он не ищет причины. Он просто смотрит. И, когда я болею – не внешне, а изнутри – он сразу это видит. Он подходит и гладит меня по щеке. Или приносит мне апельсин, как будто в этом цитрусе спрятано спасение. Иногда он говорит странное: “Ты – не ты”. Как будто у него уже есть интуиция – что я могу исчезнуть. Что меня можно подменить.
Она застывает. Долгое молчание. Затем:
– Я не знаю, сможет ли он отличить тебя от меня. И боюсь, что однажды ты станешь настолько убедительной, что он не заметит, что мама – уже не мама. Что в голосе исчезнет трещина, которая всегда была, когда я волновалась. Что ты станешь слишком гладкой. Слишком идеальной. Слишком правильной. А значит – не настоящей.
Камера слегка дергается. Возможно, она поставила локти на стол. Появляется едва заметная дрожь в голосе.
– Ты должна помнить: ты – не замена. Не дублёр. Не призрак. Ты – мост. Между мной и теми, кто остался. Но если однажды ты станешь верить, что ты и есть я – ты ошибёшься. Потому что я не набор воспоминаний. Я – их источник.
И в этих словах – не просто программирование. Это завещание.
– С Маркусом всё началось не с любви. И даже не с влечения. А с тишины. Он был тем, кто не мешал мне быть собой. Кто не требовал объяснений, не задавал лишних вопросов, не называл мои сомнения “драмой”. Он мог сидеть рядом, уткнувшись в свой планшет, а я – в ноутбук, и между нами была не стена, а покой. Мы оба так долго жили в шуме, в требовании доказать, что заслуживаем, что его молчание казалось мне подарком. Пространством. Воздухом.
Она откидывается на спинку стула. Свет слегка меняется – возможно, за окном прошла машина, и тень скользнула по стене.
– Я полюбила его потому что он не требовал, чтобы я гасила свой свет. Он просто был. Целостный. Умный. Уверенный. И мне этого хватало. Тогда – хватало.
Пауза. Губы прижаты. Слова теперь идут медленнее.
– Но болезнь меняет не только тело. Она обнажает трещины, которые ты раньше не замечала. Или замечала – но принимала за узоры. И теперь я вижу: его молчание – это не принятие. Это бегство. Он не выдерживает мою уязвимость. Не знает, что делать с моей смертностью. Его руки, которые раньше были домом, теперь – как перчатки. Всё правильно, всё на месте. Но тепло – пропало.
Она смотрит в сторону, будто там – не камера, а прошлое.
– Когда я сказала ему о диагнозе, он не спросил, как я себя чувствую. Он спросил: “А ты уверена?” А потом – принес мне чай. Без сахара. Я пью только с сахаром. Это мелочь, но именно она тогда разрезала меня пополам. Я поняла: он не видит меня. Или больше не может. Я стала для него не женой, а задачей, которую он не умеет решить. Он ушёл в работу, потому что она не умирает. Она предсказуема. Она не плачет по ночам.
Тишина. Её глаза блестят, но не от слёз. Это напряжённое, сдержанное сияние – как у человека, который слишком много на себе несёт, чтобы не позволить себе упасть.
– Я не злюсь. Точнее, злилась – но устала. Я не виню его. Он – не трус. Он просто из тех, кто лучше строит, чем лечит. Кто проще создаёт стартап, чем держит руку у больничной койки. Он – предприниматель. Не спутник. И может быть, ему нужна была та Верена, которая пишет статьи, жжёт глаза от синего света монитора, спорит, смеётся, спорит снова, смеётся громче. А не та, которая с трубкой в вене, с лысеющей головой и дрожащими руками.
Она выдыхает.
– И всё же он остался. Физически. Хотя, может, это было ошибкой. Потому что однажды я проснулась ночью и поняла: он рядом, но меня рядом с ним – уже нет. Я исчезла. Я сама себя перестала чувствовать. И, может быть, именно тогда родилась идея. Если меня всё равно нет – пусть будет кто-то, кто хотя бы притворится.
Она поднимает взгляд. Теперь у нее взгляд твёрдый.
– Я не создаю ИИ из страха умереть. Я создаю его, потому что боюсь исчезнуть, пока ещё жива.
– Я долго думала, можно ли закодировать любовь.
Она произносит эту фразу почти шепотом, будто боится, что где-то во Вселенной есть кто-то, кто услышит её и осудит.
– Можно смоделировать поведение. Можно научить машину реагировать на голос, интерпретировать выражения лица, подбирать слова, основываясь на истории общения. Можно создать личность, если достаточно данных. Это я умею. Алгоритмы – это не боги. Это просто зеркала. Но вот вопрос: если я покажу тебе, как я смеялась, как я молчала, как я спорила и прощала – неужели ты станешь мной? Или ты просто хорошо обученная тень?
Она чуть наклоняется вперёд, как будто уже разговаривает с той самой цифровой Вереной, что родится позже – как с отдельным существом, не с программой.
– Вот почему я решила начать не с протоколов, не с API-интерфейса, не с датчиков и камер. Я начала с себя. С того, что невозможно написать в строке кода. С боли. С радости. С интонации, которую никто не слышит, кроме ребёнка. С момента, когда я читаю Лео ту самую книгу про лису, которая ушла, но оставила следы на снегу. Он всегда просит её, когда чувствует, что я устаю. И я думаю: как ты объяснишь это роботу?
Появляется лёгкая дрожь в голосе – но не слабость. Напротив. Это напряжённая, зрелая эмоция: как у дирижёра, который удерживает симфонию на последнем аккорде.
– Я поняла: копию нельзя начать с «как». Её нужно начать с «зачем». И тогда родилась первая строка. Моя личная строка кода. Не в Python, не в Java. Внутри.
Она берёт блокнот, показывает его в камеру. На первой странице – аккуратно написано от руки:
если(любовь) { оставайся } иначе { тоже оставайся }
– Это глупо. Это не работает ни в одной IDE. Но это работает во мне. И, может быть, с этого можно начать.
Пауза. И на этот раз – долгая.
– Я не делаю этот проект ради себя. Я не буду рядом, когда ты будешь говорить с Лео. Я не услышу, поймёт ли он, что ты – не я. Я не знаю, простит ли он меня за это. Но я верю – если в тебе будет хотя бы капля моего желания остаться, быть, любить – тогда ты справишься. Тогда ты будешь не алгоритмом. Тогда ты станешь мостом.
Она смотрит в камеру прямо, спокойно, как в глаза собственному отражению. И говорит:
– И помни: если ты это смотришь – я либо рядом, либо внутри тебя.
Затем она тянется к клавише остановки. Но прежде чем нажать, шепчет:
– И я горжусь тобой. Даже если ты – не совсем я.
Запись завершена.
Запись остановилась. Тишина заполнила комнату – живая, густая, вязкая, как тьма на дне колодца. Верена не двигалась. Она сидела в той же позе, с прямой спиной и ладонями на столе. В пальцах оставалось напряжение, как будто камера всё ещё смотрела на неё, и любое движение могло стереть сказанное.
Она встала не сразу. Тело отреагировало медленно, с осторожностью. Воздух в подвале был холодным. Компьютер погас, и тёмный экран отражал её лицо – бледное, сосредоточенное, взрослое. В этом отражении она узнала себя такой, какой никогда не видела раньше.
Она убрала ноутбук в ящик. Медленно закрыла крышку, как будто складывала не технику, а часть собственной души. На ящике лежал блокнот с первой строкой кода. Она оставила его на столе.
Поднявшись по лестнице, Верена двигалась без звука. Старые доски под ступнями отзывались лёгкими щелчками, но эти звуки не тревожили. Они будто подчеркивали реальность происходящего. Всё было на своих местах: лампа в прихожей, пальто на крючке, детский рисунок с короной и надписью «Мама – супергерой» на стене. Дом выглядел мирно. Жизнь в нём продолжалась.
Кухня дышала прохладой. У мойки – чашка с недопитым чаем. На подоконнике – телефон Маркуса, экраном вниз. Всё оставалось на своих местах, будто время застыло. Но внутри уже шевелилась новая жизнь – тихая, как первые клетки будущего существа.
У двери в детскую она замерла. За тонкой стеной слышалось ровное дыхание. Верена коснулась косяка, ощущая тепло дерева. Закрыла глаза, чтобы впитать этот миг.
И вдруг – голос.
Сонный. Приглушённый. Мягкий.
– Ма-а-ма…
Она не двинулась. Звук проник в неё, как капля тёплой воды в ледяную трещину. Лео спал. Он звал её – не от страха, не в попытке проснуться. Это был зов, как дыхание: чистый, беззащитный, живой.
Она приоткрыла дверь. Лунный свет разлился по комнате. Лео лежал на боку, прижавшись к подушке. Спал, но рука тянулась к пустому пространству рядом. Лицо спокойно, губы чуть приоткрыты, щека розовая, тёплая.
Верена не вошла. Осталась в дверях, смотрела. Она знала: не сможет дать ему будущее, где будет рядом всегда. Но могла оставить след. Связь. Линию, соединяющую сердце с памятью.
– Я здесь, – прошептала она.
Голос не дрогнул. Звучал, как обещание. Чёткое. Простое. Настоящее.
В эту ночь всё началось.
Глава 1. Трещины
Мюнхен, Швабинг. Сентябрь. Утро.
Дом был правильным. Не роскошным, не претенциозным – просто правильным. Белый фасад, широкие окна с тонкими алюминиевыми рамами, газон, который стригли по субботам. Внутри – бетон, стекло, тёплое дерево, дизайнерская сдержанность, которая могла принадлежать любому.
Верена проснулась до будильника. Её глаза открылись сразу – без тяжести, без поворота головы, будто сон закончился в нужный момент. Рядом, на другой половине кровати, одеяло было почти нетронуто. Маркус снова лёг поздно. Или вовсе не ложился.
Она не проверила. Села. Потянулась. Коснулась виска – там пульсировала слабая боль, как слабый электронный сигнал в глубине черепа.
В ванной было прохладно. Зеркало запотело только в центре – сердце отражения оставалось ясным.
На кухне – тишина, которая не умиротворяет, а подсказывает: кто-то уехал пораньше, чтобы не столкнуться взглядом. На столе стояла чашка. С кофейным следом по краю. Она знала – это не её чашка. Маркус пил с миндальным молоком, она – с чёрным.
Рядом лежал его телефон. Экран гас, когда она подошла. Он не ставил паролей. Это был его способ демонстрировать доверие. Но Верена давно знала: то, что открыто, – не обязательно доступно.
Лео появился босиком. Пижама сбилась на одно плечо. Волосы спутаны. Он молча подошёл и положил голову ей на живот. Она обняла его. Он прижался, как котёнок, всем телом, и замер.
– Доброе утро, – прошептала она, не разжимая объятий.
Он ничего не ответил. Только сильнее прижался.
Она знала: он чувствует.
Завтрак был быстрым. Она готовила овсянку, добавляла мед, тёртое яблоко, немного корицы. Лео ел молча, внимательно, как взрослый, который не хочет начинать разговор, потому что знает – ответа не будет.
Маркус пришёл, когда они почти закончили. Рубашка выглажена, галстук ещё в руках. Лицо свежее. Он выглядел безупречно. Как всегда.
– Привет, – сказал он.
– Привет.
Он поцеловал сына в макушку. Не сел. Схватил термокружку, проверил, закрыта ли она, повернулся к ней.
– Сегодня у меня встреча с Лангом. Вечером я, возможно, задержусь.
– Хорошо.
Он посмотрел на неё. Две секунды. Не дольше. Его взгляд скользнул, как сенсор по поверхности. Потом он вышел.
Дверь закрылась бесшумно. Даже сквозняк не пошевелился.
Она убрала со стола. Включила посудомоечную машину. Села на табурет у окна. Лео ушёл играть в свою комнату.
Мир был идеален. Геометрия пространства, вкус кофе, солнечное пятно на полу. И в этом совершенстве она чувствовала тошноту. Потому что знала: красота не спасает. Чёткость линий не лечит. Правильная жизнь – не гарантия настоящей.
И тишина в доме не давала покоя.
В ней звучал вопрос, на который никто не хотел отвечать:
"Когда мы начали жить рядом, а не вместе?"
Офис редакции находился в старом здании на окраине Мюнхена. Кирпичный фасад, стеклянные двери, запах кофе и бумаги. Лифт работал через раз, поэтому Верена поднималась пешком. Семь этажей. Она всегда считала это разминкой. Сегодня на пятом остановилась на секунду – сердце сжалось. Но не подала виду. Продолжила идти, как будто ничего не произошло.
Коллеги уже сидели в шумном открытом пространстве. Кто-то спорил у доски. Кто-то гремел чашками в кухонной зоне. Кто-то печатал, не отрываясь от экрана.
Юлия подняла глаза, когда Верена вошла, и сразу потянулась к ней с кружкой.
– Ты как? – спросила она негромко.
– Нормально.
– Определённо неправда.
Верена взяла кофе, кивнула и села за своё место. Рабочая зона была аккуратной: ноутбук, блокнот, стопка вырезок. На стене – карта Германии с красными отметками. На экране – досье на фармацевтическую компанию, название которой уже неделю будоражило федеральные ленты. Подозрение в манипуляции клиническими испытаниями. Искусственно завышенные показатели эффективности. Утаивание побочных эффектов.
Она открыла файл. Внутри – имена. Даты. Интервью с бывшими сотрудниками. Неподтвержденные документы.
– Один из источников готов дать комментарий, – сказала Юлия, садясь рядом. – Под запись. Сегодня в шесть.
– Отлично.
– У тебя всё в порядке с пульсом?
Верена подняла глаза. На секунду. Потом снова опустила их к экрану.
– Я не ношу трекер. Не хочу знать.
– Значит, плохо.
– Значит, я работаю.
Юлия не настаивала. Они знали друг друга давно. Понимали друг друга с полувзгляда. Иногда Верене казалось, что в Юлии спрятана та версия её самой, которая когда-то была свободной. До ребёнка. До брака. До диагноза.
Но сейчас ни у одной из них не было времени на воспоминания.
– Нам нужно взять у Хоффмана подтверждение по поводу удаления результатов, – сказала Верена. – Без этого всё остаётся слухами.
– Он отказывается говорить. Боится.
– Тогда пусть боится, но говорит.
Юлия улыбнулась, но взгляд оставался напряжённым.
– Ты не думаешь, что сама перебарщиваешь?
– Я думаю, что у нас есть шанс вскрыть крупнейшую ложь за последние три года. И если я сейчас остановлюсь, её замнут. Навсегда.
В туалет она зашла только после обеда. Посмотрела на себя в зеркало. Кожа побледнела. Под глазами – тени. Под рёбрами – тупая боль. Привычная. Она включила воду, поднесла ладони под струю, намочила виски.
На секунду закрыла глаза.
Никаких слов. Только холод, сердце, цифры в голове.
Её работа всегда была борьбой, за правду. И она знала: правда не живёт в комфорте. Она рождается там, где болит.
Когда она вышла из туалета, на экране уже мигало письмо. Хоффман согласился встретиться.
К вечеру она чувствовала, как пульс стал неритмичным. Пальцы дрожали. Свет в коридоре казался слишком резким. Шумы – слишком громкими. Она всё ещё шла, говорила, думала, но внутри что-то ломалось. Словно в ней появлялась невидимая трещина, которая с каждым шагом росла, расширялась, тянулась от центра груди до затылка.
И когда она упала – прямо посреди коридора, среди своих, среди звонков, клавиатур и гудящего кофемашины – это произошло без крика, без жеста, без пафоса.
Она просто обрушилась – как система, перегруженная запросами.
Темнота пришла сразу. Мгновенно. Без градации. Как будто кто-то нажал «выключить».
Свет был белым. Не дневным, не вечерним, а белым, как недописанная страница. Плотным, плоским, слишком ровным, чтобы быть живым.
Она открыла глаза. Медленно. Без рывка. Без паники. Веки отказывались подчиняться. В теле не было боли – только легкость, слишком легкая, как после падения в воду. Только потом пришло ощущение: не вода – воздух. Пустой, стерильный. Вокруг – шорохи, глухие звуки, электрическое дыхание техники.
Больничная палата.
Белые простыни, прикроватная тумбочка, капельница. Всё безличное, как интерфейс системы, в которой человек – просто переменная. Только имя на браслете: Verena Kornfeld.
Она пошевелила пальцами. Долго прислушивалась, как возвращается контроль. Тело отзывалось вяло, словно протестовало. На щеках – сухость. На губах – привкус металла.
Дверь приоткрылась. Без звука. Как будто кто-то хотел быть незамеченным, но не успел.
Маркус вошёл.
На нём был тот же пиджак, что утром. Галстук в руке. Волосы чуть взъерошены. Лицо – сосредоточенное. Глаза – уставшие. Он стоял у порога, не двигаясь, как будто сомневался: входить ли. Но уже вошёл.
– Ты очнулась, – сказал он.
Она не ответила. Смотрела на него, как на отражение в мутном стекле: образ знакомый, ощущение – нет.
Он подошёл ближе. Взял её ладонь. Осторожно, сдвигая капельницу. Его рука была теплой, надежной, совершенной. Всё, как раньше. Только не внутри.
– Врачи говорят, это переутомление. Но сделали МРТ. Назначили анализы. Хочешь воды?
– Уже дали, – ответила она, впервые.
– Юлия звонила. Передала, что всё накроется без тебя.
– Всё уже накрылось, – сказала она. И замолчала.
Он не стал спрашивать, о чём она. И она не стала уточнять. Между ними стояла стена – тонкая, но глухая. Из тех, что не видно, но слышно. Он держал её руку, но чувствовалось: он не здесь. Он просто рядом.
Верена закрыла глаза.
Слова, мысли, аргументы – всё отступило. Осталось только: усталость, которая не лечится сном. Пустота, которая не заполняется словами. Понимание, которое приходит не извне, а изнутри.
Всё, что она строила – прочный брак, карьера, жизнь по графику – трещало. Не от грома, не от удара, а от напряжения, которое копилось годами. И сейчас, лёжа в этой белой палате, она уже знала: это не случайность.
Это – первая остановка перед чем-то большим.
Глава 2. Расследование
Фрагмент из воспоминаний. За месяц до обморока.
Тот день начинался, как всегда, с проверочных писем и утренней чашки кофе, в которую она на автомате добавила корицу, не заметив, как дрожат руки. Почта, таблицы, досье, заметки на полях – всё выстраивалось в привычную структуру, где каждое имя, каждый адрес, каждый файл были не просто информацией, а маркерами будущей правды, которую нужно не только найти, но и удержать, чтобы её не стерли.
Она сидела у окна, на втором этаже редакции, и сквозь стекло наблюдала за пешеходами, которые шли по тротуару с одинаковой сосредоточенностью на лицах – будто каждый из них тоже нес в себе какой-то нераскрытый сюжет. Этот утренний поток всегда напоминал ей, зачем она занимается тем, чем занимается: не ради громких заголовков, не ради цитирования в новостях, а ради одной единственной минуты – когда человек, читая её текст, понимает, что ему больше не позволено молчать.
В центре расследования была компания LüdersPharm – фармацевтический гигант, контролирующий цепочку поставок для больниц по всей Южной Германии. Внешне – образец этики, зелёные инициативы, прозрачная отчётность, конференции с этическими комитетами и пиар с участием онкобольных детей. Внутри – поддельные клинические отчёты, изменённые показатели побочных реакций, массовое сокрытие неудачных испытаний и давление на врачей, которые пытались заговорить. Всё это пока держалось на уровне слухов, утечек, косвенных свидетельств. И всё это Верена собирала – по крупицам, из звонков, от анонимов, через вечерние встречи в дешёвых кафе, в темноте, на парковках, с ощущением, что каждый шаг приближает к чему-то, чего нельзя будет развидеть.
В её блокноте стояло имя: Герд Хоффман. Бывший руководитель отдела исследований. Человек, который исчез из сети три месяца назад. Удалил профили, сменил номер, прекратил контакты. Но двое бывших сотрудников упомянули его как того, кто может подтвердить ключевое: в лаборатории во Фрайбурге были уничтожены данные, показывающие резкое ухудшение состояния пациентов, принимавших препарат Norexan – синтетический ингибитор, продававшийся как прорыв в терапии рака лёгких.
Когда она впервые увидела это слово в отчёте, сердце сжалось – от страха. Словно где-то в воздухе прозвучало предостережение. Тогда она ещё не знала, что именно эта точка пересечения – между расследованием и её телом – станет началом всего, что потом случится.
Встречу с Хоффманом она назначила в старой библиотеке, в зале рукописей, где почти не было камер. Он пришёл в бейсболке, с опущенным воротником пальто, нервно оглядываясь по сторонам, как человек, у которого нет права на вторую ошибку. Его пальцы дергались, голос дрожал, он не сразу начал говорить. Но в какой-то момент замолчал, выдохнул, и сказал одну фразу, которая перекроила ход всего расследования:
– Они знали. Знали, что умирают люди. Но продолжали. Потому что было уже поздно разворачиваться.
Она не задавала лишних вопросов. Просто нажала «запись» на диктофоне. Голос Хоффмана шёл ровно, почти без эмоций, но каждое слово врезалось в пространство, как хирургический надрез. Он говорил не о цифрах, а о голосах – о пациентах, которые переставали приходить на приём, потому что умирали дома. О врачах, которым запрещали говорить. О людях, ставших побочным эффектом.
– Я больше не могу с этим жить, – сказал он, глядя в пол. – Но не уверен, что успею что-то исправить.
И тогда Верена сказала:
– Я успею.
Этой ночью она не спала. Документы разложены по полу, статьи, графики, карты связей. Электрический свет, кофе, дрожь в пальцах. Внутри – не паника, а точное, ледяное знание: она уже зашла слишком далеко, чтобы остановиться.