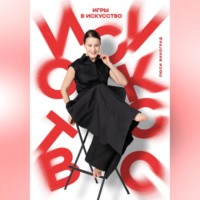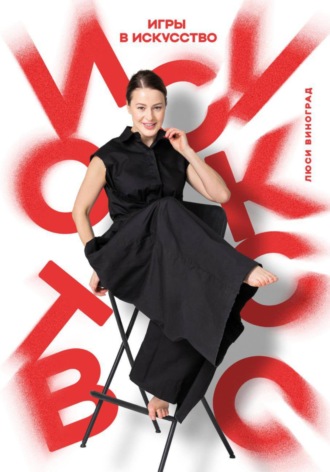
Полная версия
Игры в искусство
При этом он не разрушает форму как теоретик – он выходит из нее как человек, которому она больше не помогает. Она становится слишком тесной. Слишком правильной. А ему нужно выразить то, что правильным быть не может. Он не перестраивает предмет – он его деформирует, потому что иначе не получается передать напряжение. В этом и есть разница: его форма не упрощается и не исчезает, как это будет позже у других авторов (у Сезанна, Пикассо), – она остается, но начинает страдать, будто ломается изнутри. И эта деформация – не художественный прием, а симптом и новое качество: форма больше не обязана быть логичной, потому что она больше не обязана быть правдой для глаз. Ее правда теперь в том, как она ощущается. И это ощущение выходит за границы самих предметов. Оно начинает заполнять все пространство. Перспектива кажется сдвинутой, линии – напряженными, как натянутые струны. Пейзаж не «раскрыт» перед зрителем – он давит, жжет, подбирается слишком близко. И это уже не просто изображение предметов, а новый тип пространства. Пространства, которое не фиксирует объекты, а проживает их состояние.
Именно это ощущение нового пространства – плотного, сжатого, напряженного – начинает особенно отчетливо проявляться в его поздних работах. Одной из ключевых здесь считается «Спальня в Арле» (1888). Казалось бы, жанр бытовой: комната, мебель, предметы. Но все пространство картины будто начинает играть против зрителя. Перспектива сломана: пол уходит вверх, стены сдвинуты, предметы выглядят неустойчивыми. Кровати и стулья имеют непропорциональные размеры, линии искажаются. Пространство – как коробка, которая вот-вот сомкнется. Искусствоведы отмечают, что Ван Гог сознательно деформирует интерьер, чтобы передать неуют, сдавленность, внутреннюю тревогу. Он пишет не комнату, а состояние, в котором жил. И делает это через форму.
Другая знаковая работа – «Пшеничное поле с кипарисами» (1889). Это пейзаж, но он лишен спокойствия. Линии облаков, деревьев и холмов здесь не следуют перспективе – они закручены, изгибаются, как потоки ветра, как волны или накатывающий внутренний жар. Пространство кажется сжатым в вертикальном напряжении. В данной работе Ван Гог добивается эффекта, в котором все элементы пейзажа вовлечены в общее колебание – как будто природа «звучит» в унисон с психическим состоянием автора. Он отказывается от иллюзии стабильного мира. Его поле не открывается зрителю – оно втягивает, закручивает.
И, конечно, «Звездная ночь» (1889) – одна из самых известных и часто обсуждаемых его работ. Здесь идея живого, вибрирующего пространства доведена до предела. Небо состоит из спиралей, завихрений, кругов, которые не подчиняются оптике. Они не «находятся» на небе – они его создают, как будто весь космос сотрясается. Сама деревня внизу кажется застывшей, но над ней – вихрь, буря, напряженное поле. Линии и объемы подчинены не зрительской логике, а внутреннему напряжению картины. Ван Гог здесь окончательно переводит форму в состояние – она становится энергией, а не очертанием.
Таким образом, в своих работах Ван Гог показал, что форма может быть не описанием мира, а его внутренним напряжением. Что предмет можно не построить, а прожить. Что пространство может быть нервным, что линия может дрожать, и в этом будет правда. И этим он опередил свое время. Потому что задолго до того, как художники начнут анализировать, дробить и перестраивать изображение, он уже показал, что форма – это не граница вещи, а граница чувства. И потому стал одним из первых, кто переосмыслил форму не как картинную конструкцию, а как носитель внутреннего.
Глава 8. Поль Сезанн
А вот Поль Сезанн стал уже тем, кто заложил предметную, детальную основу для самых смелых художественных поисков XX века: когда форму начнут не просто разбирать, сжимать, деформировать, а вообще ставить с ног на голову.
Именно его работы поставили вопрос: как передать не внешнее впечатление и не напряжение и боль, а именно внутреннюю структуру мира? Как передать имманентную природу вещей, понять, из чего они состоят? У каждого предмета есть не только форма, но и душа… Или только конструкция?
Над этими вопросами размышлял юный художник, творческий путь которого начался в конце XIX века. Его ранние работы были очень часто супермрачными: про вскрытие, про нелицеприятные сюжеты, такие как, например, «Искушение святого Антония». Он как хирург-патологоанатом исследовал внутренние процессы пространства и мироздания. И очень во многом его мрачная натура и невоспитанность лишали его возможности показывать свои ранние труды, потому что все эти жуткие тематики и загадочность шокировали критиков тогдашнего времени – и те отказывались его экспонировать. Он был нелюдим, с характером, скажем так, не для салонов. С галеристами не церемонился, в свет не выходил, и вообще вел себя скорее как мизантроп с красками, чем как художник, жаждущий признания.
Его ранний стиль был резким, тяжеловесным, мазки – густые, формы – агрессивные. Он работал в духе романтизма и даже барокко, но при этом не стремился к красоте. Скорее – к ощущению дискомфорта, напряжения. Это была живопись без утешения.
В то время никто еще не говорил о «сезаннизме». Был просто Поль, которого чурались знакомые, соседи. Его считали странным, трудным, даже «некультурным». Возможно, наш Поль был одинок, и это стало причиной начать искать другой язык общения с миром, другой способ видеть.
В этом и заключается гений восприятия Сезанна: он начал отходить от жестких сюжетов и переключился на другое: как устроен предмет? что в нем главное? что делает его таким, каким мы его видим и воспринимаем?
Он стал смотреть на мир иначе. Не как на сборник впечатлений, а как на нечто сконструированное, что можно понять – если правильно посмотреть. Он начал видеть за предметами структуру, ритм, форму. Он не просто наблюдал – он буквально разбирал объекты взглядом, как инженер, изучающий конструкцию. Он видел в яблоке не фрукт, а сферу. В кувшине – цилиндр. В горах – конусы и соотношение плоскостей. Все стремился упростить до геометрии. И в какой-то момент он приходит к своей главной мысли, которую потом с восторгом подхватят будущие художники-новаторы:
«В природе все моделируется через шар, цилиндр и конус».
Сезанн не хотел копировать натуру. Он хотел ее организовать заново – по-своему, из собственных наблюдений и решений. И если импрессионисты ловили мимолетный свет, то Сезанн как будто задерживал взгляд и говорил: «Подожди. Давай посмотрим, что здесь на самом деле».
И вот этот переход к вдумчивому наблюдению со временем превращается у него в целую живописную систему. Он практически отказывается от академической перспективы – вместо точек схода у него – соотношения форм, как если бы он выстраивал конструкцию сразу на холсте. Он начинает моделировать объем не через свет и тень, а через цветовые плоскости, укладывая их одна за другой – не вглубь, а вширь, как будто собирает мир по частям. Пространство при этом в его работах может казаться нестабильным – горизонты чуть покачиваются, углы сдвинуты, перспективы намеренно не сходятся. Но сами предметы при этом выглядят тяжелыми, почти осязаемыми. Они держат форму. И в этом Сезанн оказывается совершенно не похож ни на кого из своих современников. Он пишет не то, что увидел в моменте, а то, что понял, наблюдая продолжительное время.
Свои картины Сезанн писал долго – иногда мучительно долго. Он снова и снова возвращался к одним и тем же объектам: яблокам, травинкам, деревьям, горе́ Сент-Виктуар. Его интересовало не только как это выглядит, а что в этом живет. Это особенно заметно в его ключевых сериях: например, его «Натюрморты с яблоками» – это не просто учебник по композиции, а почти исследование тяжести и равновесия. Яблоки у него никогда не лежат симметрично, у них странный наклон, они как будто чуть-чуть сползают с поверхности. Но в этом и фокус: он показывает не как яблоко стоит, а как оно существует в пространстве – неустойчиво, с характером, со своей массой.
А если говорить о пейзажах, то главная героиня у него – гора Сент-Виктуар, которую он писал десятки раз. С холста к холсту меняется не форма горы, а взгляд художника. Иногда гора почти плоская, в других работах – резкая и тяжелая. Он будто тренируется, изучает, пытается найти то единственное положение, в котором она «проявится» до конца. И в этом все, что Сезанн вкладывал в свои картины: и аналитичность, и интуиция, и внутренняя вера, что за формой прячется нечто большее.
Впечатленные этой методичностью, этим вниманием к структуре, к внутреннему напряжению, будущие кубисты буквально разбирали работы Сезанна по слоям. Пикассо и Брак считали Сезанна своим учителем, даже если он уже умер к тому моменту, как они начали делать первые «кубические» опыты. Они изучали его картины в мастерских, копировали его натюрморты, обсуждали то, как он «строит» объект.
Особенно их поразила идея, что один предмет можно смотреть с нескольких сторон одновременно – ведь Сезанн, сам того не зная, начал к этому подходить: яблоко у него написано как будто сверху, тарелка – сбоку, а стол – под углом. Все не сходится, но именно в этом – правда. Не оптическая, а внутренняя, пространственная.
Пикассо позже скажет, что Сезанн – это как «отец, который не знал, что у него есть дети».
Глава 9. Кубизм: Пикассо и Брак
А теперь о самом Пикассо.
Как я уже сказала, именно молодой Пабло станет последователем традиций Сезанна. И если Сезанн начал смотреть на форму как на конструкцию, то Пикассо довел это до предела. Он не просто использовал геометрические принципы – он превратил их в язык, которым стал говорить с миром. Пабло Пикассо можно с уверенностью назвать одним из самых влиятельных художников XX века. Он посвятил свои артистические практики кубизму и является одним из родоначальников этого стиля.
Кубисты стали раскладывать форму радикально, изображая один и тот же предмет с разных ракурсов на одном и том же холсте. То есть если сейчас мы посмотрим, например, на открытки стерео-варио, они используют именно тот принцип, который еще тогда, в начале XX века, предложили кубисты. Чем же характеризуется этот стиль? По сути своей – это шаг в сторону абстракции, но еще не отказ от предметного мира. Своего рода отправной точкой кубизма можно считать работу Пикассо «Авиньонские девицы», которая представляет собой пять женских фигур, но по форме они почти не читаются. Это нагромождение плоскостей, углов, геометрических кусков, слегка соединенных цветом.
В этой сдержанной цветовой палитре, используя только силуэт и линию, художник стремится не описать тело, а вывести его изнутри наружу. Все, что может отвлечь – деталь, перспектива, натурализм, – уходит. Потому что точность, как в реальности, теперь не главное: этим занимается фотография. Еще раз подчеркну, что кубическая живопись – это большой шаг на пути к абстракции, о которой мы будем говорить буквально в следующей главе. Кубизм отвергает механическое воспроизведение действительности, он не пытается воссоздать «как есть», она строит «как понимается». Так в чем прикол, спросите вы? Почему конусы и квадратики вместо настоящих людей получили такое широкое распространение и статус новаторства?
Все дело в том, что Пикассо и его последователи стали первыми, кто превратил двухмерность в философию – прямо как в мирах 2D-компьютерных игр. Они отказались от попытки изобразить мир «как видит глаз» и вместо этого предложили изобразить мир как его осознает разум. Они препарировали структуру вещей, показывали форму без украшений и искали в геометрии новый способ выразить суть.
Отдельно стоит отметить, что на творчество кубистов оказало большое влияние африканское искусство. Конкретно Пикассо вдохновлялся африканскими масками и скульптурой, которые в начале XX века были широко представлены в Париже благодаря колониальным завоеваниям.
Экзотические сюжеты, каннибалистические портреты, маски без мимики – все это шокировало европейцев, привыкших к гладкой классике. Именно брутальная, сокращенная, почти тотемная форма, которую использовали африканские художники, перекочевывает в «Авиньонских девиц».
«Авиньонские девицы» стали своего рода поворотной точкой – не только для самого Пикассо, но и для всего современного искусства. Именно вслед за этой работой начался этап, который позже получит название аналитического кубизма.
В этом периоде кубизма художники отходят от узнаваемых очертаний предметов и вместо этого строят картину как сложную, почти математическую структуру. Пространство разрезается на фрагменты, объекты как будто развернуты в разные стороны. Все детали сведены к граням, плоскостям, пересекающимся линиям – чтобы показать не вид, а логику предмета. Цвет почти исчезает – остаются охра, коричневый, серый, приглушенный зеленый. Это не для красоты, а для чистоты восприятия формы. Один из характерных примеров – «Портрет Даниэля-Анри Канвейлера» (1910), где лицо галериста буквально растворяется в пересечении плоскостей, но при этом сохраняет странную внутреннюю собранность. Вглядевшись, можно заметить галстук, руки, даже намек на глаза – все есть, но все не на своем месте.
Но со временем и эта строгая система начинает трансформироваться. Художникам становится интересно не только разбирать, но и собирать заново – но уже не из реальности, а из новых, искусственно созданных элементов. Так появляется синтетический кубизм: с коллажами, вставками из обоев, газет, настоящих предметов. Это уже другой жест: не столько анализ, сколько конструкция. Пространство упрощается, цвет возвращается. Кубизм становится более игривым, но не теряет своей главной идеи – создавать заново, а не повторять видимое.
Один из ключевых примеров синтетического кубизма – «Натюрморт с плетеным стулом» Пикассо. В этой работе он вклеивает в картину кусок настоящей клеенки с имитацией плетения, добавляет веревку, использует обрывки бумаги. Изображение и предмет буквально сливаются. Это уже не «иллюзия» стула, а стул, который частично реальный. Идея изображения превращается в жест: вместо того чтобы нарисовать, художник склеивает. «Натюрморт с плетеным стулом».
Причем такие эксперименты с материалами и формой Пикассо часто делал не в одиночку. Его соавтором и постоянным партнером в кубистских поисках был художник Жорж Брак – человек, с которым они в какой-то момент даже перестали подписывать работы: настолько тесно их стили переплелись.
Именно Брак считается автором одного из первых «кубических» пейзажей – «Дома в Эстаке» (1908). Эта работа состояла из геометризированных домиков, словно сложенных из деревянных брусков. И именно на нее критик Луи Восель среагировал фразой, которая и дала название целому направлению:
«Мсье Брак все упростил до кубиков!»
По слухам, так и появилось слово «кубизм» – из ироничного комментария, как это часто бывает в искусстве.
В тандеме с Пикассо Брак прошел последовательные стадии развития стиля – от аналитического разложения формы до синтетических коллажей. Их картины этого периода практически невозможно различить: они были не конкурентами, а соавторами нового языка.
Но публика восприняла язык кубизма, конечно же, далеко не сразу. Первые выставки вызывали шок, неприятие и резкую критику зрителей. Для них картины, где фигура рассыпается на углы и плоскости, казались бессмысленными. Кто-то смеялся, кто-то злился: «Зачем это нужно, если здесь вообще ничего не понятно?». Где-то мы это уже слышали… :) Критики писали о «живописи без глаз», о «кубических уродах», об «инженерах без души». Но вместе с отторжением появилось и другое – интерес. Потому что было ясно: это не случайность. Это – система, которая возникла в ответ на революционное шествие механистического воспроизводства вещей, на бурное развитие фотографии и кинематографа, на необходимость отражения многогранности, динамики и архитектурности тогдашней жизни. И постепенно кубизм стал частью художественного поля. Коллекционеры начали покупать, галереи – выставлять, а музеи – признавать. То, что начиналось как визуальный взрыв, стало новым стандартом.
Глава 10.
Казимир Малевич.
Кубистический период
В Российской империи тоже без кубизма не обошлось. Его методы – разложение формы, плоскостное мышление, сдержанная палитра – достаточно ярко развивались и у нас.
Одним из главных художников, через которого кубизм прошел в русскую художественную среду, стал Казимир Малевич. Но – важное уточнение: Малевич начинал как кубист, работал в духе так называемого кубофутуризма, но довольно быстро вышел за пределы этого стиля.
Для него кубизм стал не домом, а трамплином – стартовой точкой к собственному художественному языку. Его ранние работы вполне соответствуют кубистской логике: фигуры построены из плоскостей, все рубленое, ломаное, под разными углами, словно собрано из деталей конструктора. Но в них уже чувствуется движение – то, чего у европейских кубистов почти не было. Это и есть кубофутуризм – когда форма от кубистов, а энергия от футуристов. Один из таких примеров – картина «Авиатор» (1914): фигура здесь как будто вырезана из наклонных плоскостей, напоминающих металлические обшивки, скрученные винтом. Все напряжено, все летит – человек буквально сливается с техникой, и тело становится машиной. Это не портрет, а образ движения.
А потом наступает 1915 год – и Малевич делает то, на что не решался никто. Он пишет «Черный квадрат». Ни тела, ни предмета, ни сюжета. Просто квадрат. Черный. На белом фоне. Картина, к которой прилагается целая толстая книжка с пояснениями – и тем не менее большинство зрителей остаются в ступоре. Что он этим хотел сказать? Примерно следующее: «Зачем мне изображать мир, если я могу изобразить ничто?»
Малевич отказывается даже от того, что делали кубисты. Они хотя бы разбирали предмет. Он – просто его убирает.
И делает это всерьез: не как шутку, а как попытку обнулить все изображение. Чтобы начать с чистого листа. Такой шаг шокировал всех – но именно в этом и проявляется, насколько радикально кубизм изменил мышление художников. Там, где раньше говорили: «Как правильно изобразить мир?» – теперь спрашивают: «А зачем его изображать вообще?» Так далеко кубизм не заходил больше нигде. Только в России он стал не просто стилем, а поводом все переосмыслить с нуля.
Что важно понимать о самом кубизме?
Во-первых, это всегда плоскость, никакой классической перспективы. Во-вторых – геометризация: художник не копирует объект, а разлагает его на составляющие. В-третьих – сдержанный цвет: чтобы ничто не отвлекало от формы.
И, наконец, главное: кубизм – это способ думать, а не просто рисовать. Пять художников-кубистов, которых вам нужно запомнить, как свои пять пальцев: Пикассо, Брак, Попова, Лентулов и, конечно же, Казимир Малевич.
Глава 11. Как объяснить кубизм ребенку
Дорогой малыш, представь себе, что ты вернулся в детство. Вот туда, совсем-совсем даже до детского сада. И ты рисуешь маму и папу. Мама у тебя состоит из кружочка – головы, треугольника – тела, палочек – ножек и, возможно, палочек – ручек.
А папа состоит из тела-квадрата, кружочка-головы и опять-таки – ручек и ножек-палочек. Так вот – это ровно то, чем занимаются кубисты. Они разбивают сложные изображения на простые геометрические формы, для того чтобы передать структуру – то есть составные части объекта.
Зачем же они это делают? Хороший вопрос. В то время, когда кубисты были максимально популярны, они делали это для того, чтобы поэкспериментировать. То есть попробовать себя в роли, можно сказать, таких вот математиков визуальности. Они это делали, потому что фотографы могли гораздо лучше, чем художники, отображать то, что происходит вокруг, и писать портреты.
И поэтому художникам нужно было отстраиваться. Им нужно было находить какой-то свой способ – очень оригинальный способ – представления действительности. Им нужно было, можно сказать, находить смысл. Смысл своей работы. Смысл действительности. И они попробовали это делать через геометрию. Уж не знаю, есть ли у тебя в школе геометрия или пока нет, но абсолютно точно: еще до того, как ты в школу пошел, – ты уже умел это делать.
Попробуй прямо сейчас изобразить то, что ты видишь – комнату, в которой ты находишься, – с помощью прямоугольников, кружочков, квадратов или других геометрических составляющих частей. И покажи маме, что у тебя получится. Уверяю тебя – даже сегодня кубистические таланты очень востребованы. Кубизм является по-прежнему популярным направлением в живописи. Поэтому, если у тебя хорошо получается, есть большой шанс на то, что ты станешь звездой мировых музеев.
Глава 12. Футуризм
Раз уж в рассказе про Малевича я упоминала футуризм, необходимо рассказать и об этом стиле. Это направление в искусстве ХХ века, визуально похожее на кубизм, но по сути своей гораздо более радикальное. Если кубизм прославляет форму и отказ от трехмерности в пользу плоскости, то футуризм делает ставку на движение, прогресс и полный разрыв с прошлым. Это уже не художественный метод – это идеология будущего, почти религия для своих последователей.
Самым главным документом футуризма стал Манифест футуризма, опубликованный в 1909 году итальянцем Филиппо Томмазо Маринетти. В нем он, особо не церемонясь, призывал отказаться от прошлого, уничтожить старое искусство, воспевать технический прогресс, машины и даже войну.
«Мы хотим освободить нашу землю от зловонной гангрены профессоров, археологов…» – да-да, именно такие фразы звучат в этом манифесте.
Но важно понимать: итальянский и русский футуризм – это не одно и то же.
В Италии футуризм был агрессивным, милитаристским, почти машинным. Все крутилось вокруг техники, скорости, заводов, городов будущего. В России – все иначе. Здесь художники и поэты использовали футуризм как средство революции, но не через танки, а через язык. Через разрушение привычной культуры – слов, смыслов, форм. Вместо оды пулемету – заумная поэма, вместо шестеренок – новый алфавит. И это тоже была атака, только не на броню, а на старую речь, старую литературу, старое мышление.
После октябрьской революции футуризм очень органично проникает в самые разные сферы жизни теперь уже советского общества. Он перестает быть просто «про живопись» – и начинает буквально перестраивать визуальный язык культуры. В частности, это затронуло художественный язык: слова стали больше, громче, рваней. В типографской продукции буквы буквально выстраивались в диагонали, кувыркались по строкам, растягивались или сжимались под ритм лозунга (вспомним советские плакаты). Это уже не текст – это графика, которая кричит. Плакат, страница, витрина – все превращалось в поле для эксперимента.
Архитектура тоже начала меняться. Здания стали угловатыми, напористыми, как будто в движении. Они уже не украшались, они говорили своей формой. Было ощущение, что город строится на скорости, под гул революционного мотора. Даже одежда начала выглядеть по-другому. Футуристы и здесь лезли с идеями: не наряд, а конструкция, не узор, а ритм. В Италии, например, они всерьез проектировали костюмы для «людей будущего». У нас это не пошло в массовость, но настроение – разрушить классику и собрать что-то новое – осталось.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.