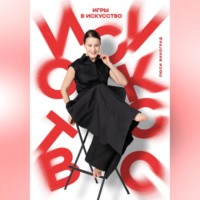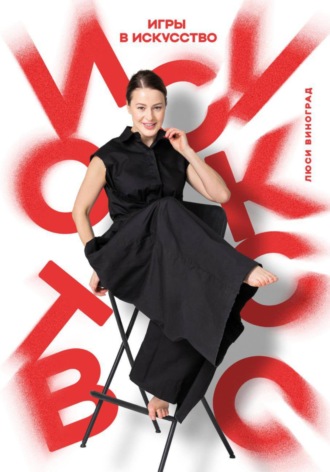
Полная версия
Игры в искусство
Поэтому когда Клод Моне выставил свою знаменитую работу «Впечатление. Восход солнца» в 1872 г., критики буквально обрушились на него. Один из них с издевкой написал, что это даже не картина, а просто «впечатление», – и именно это слово дало название целому направлению. Так что спасибо, злобный критик: помог придумать слово «впечатленчество» (оно же – «импрессион» по-французски) и тем самым сделать историю. В момент, когда публика впервые увидела работу Моне на той самой первой выставке импрессионистов 1872 года, было одно сплошное: «Что это? Почему это? Где тут хоть что-то понятное?» На картине вроде бы побережье, вроде бы солнце, вроде бы свет, но ни тебе героев, ни богов, ни гладкой поверхности. Импрессионисты вызывали у академиков примерно ту же реакцию, какую сегодня вызывают абстракции у тех, кто привык к «чтобы как на фото». Только тогда это было не просто непонимание – это был вызов устоявшейся системе. Для самих художников все происходящее стало не просто вызовом, а возможностью. Возможностью наконец-то перестать изображать то, что «правильно», и начать изображать то, как воспринимается реальность, какое впечатление она оставляет.
Но чтобы по-настоящему воспринять – нужно было выйти из мастерской. В буквальном смысле. Ведь до этого живопись создавалась почти исключительно в помещении: художник месил краску вручную, сидел под крышей и копировал застывшие натурные сцены или античных героев. Все изменилось в тот момент, когда изобрели… тюбик. Маленький, металлический, с крышечкой – он позволил взять с собой краску на улицу. Да-да, простое изобретение тюбика с краской в 1840-х годах тоже стало революцией. Теперь художник мог взять краски, кисти, мольберт, зонт – и пойти писать на пленэре, то есть прямо под открытым небом. Все, живопись вышла из комнаты. Вместо академического натюрморта – берег Сены. Вместо драпировок – вечерний свет в саду. Импрессионисты буквально охотились за светом: утро, полдень, сумерки – каждый момент имел свою тональность. А время, чтобы ухватить его, было коротким: свет быстро менялся, и художнику приходилось писать так, словно он дышит. Вот так – с тюбиком в сумке и солнцем над головой – у художника появилась возможность не просто думать иначе, а буквально видеть иначе.
И, конечно же, художники стали мыслить писать иначе. Посмотрите на импрессионистские полотна: мазки там жирные, быстрые, будто сделаны не кистью, а куском воздуха. Художники отказались от привычной академической гладкости – той самой, где мазок должен быть незаметен, а поверхность картины – почти как стекло. Импрессионисты, наоборот, оставляли след кисти видимым. Потому что для них важен был не результат, а сам процесс восприятия: как именно свет ложится на воду, как меняется небо за три минуты, как воздух дрожит над полем.
Каждый мазок у них – это дыхание момента. Никакой предварительной прорисовки, никакой подмалевки – только то, что здесь и сейчас. И еще одна дерзость: никакого черного цвета. Академическая школа обожала черный: в тенях, в одежде, в драматургии. А импрессионисты говорили: «А где вы вообще в жизни видели настоящий черный?» В природе его нет. В тенях они находили фиолетовое, синее, зеленое. Даже в самых темных участках они искали оттенок. Для них тьма не была пустотой – она была насыщенной, глубокой, переливчатой и разноцветной сутью.
Но не только цвета и мазки отличали импрессионистов. В их полотнах часто отсутствует сюжет в привычном смысле. Нет героев, нет драмы, нет «истории», почерпнутой из Древнего Писания или летописи какого-нибудь царственного наместника Бога на земле. Есть солнечный угол сада, бегущие по воде блики, женщина-простолюдинка за вязанием, лодка на реке – мгновение, зафиксированное как оно есть. Искусство – не как литература, а как процесс наблюдения за жизнью и ее обитателями в их естественной среде. Для максимально живой передачи этого процесса у импрессионизма появился свой, абсолютно узнаваемый язык: живой мазок, отсутствие контуров, игра света, отказ от черного и нередко – отсутствие явного сюжета. Все это – чтобы передать не то, что видит глаз, а то, как именно человек это чувствует.
Таким образом, что же такое импрессионизм? Импрессионизм, ребята, это больше не изображение объективно существующей реальности. Импрессионизм – это попытка передать восприятие этой реальности. Закройте глаза и представьте: какие образы рисует ваше сознание, когда вы представляете или созерцаете солнечный пейзаж или морское побережье? Какое впечатление на вас производит солнце, играющее на водной глади и отражающееся на ваших пальцах?
Именно такую попытку впервые сделал Клод Моне – тот самый с картиной «Восход. Впечатление», о котором мы уже говорили, когда обсуждали возмущенных академиков. Но отбросим иронию критиков! Давайте посмотрим на саму картину. «Восход. Впечатление» – это не порт, не лодка, не небо. Это состояние. Свет разливается сквозь дымку, солнце – не шар, а блик, вода – не гладь, а вибрация. Картина будто рассыпается на части, и ты не понимаешь, что именно видишь, – но осознаешь, что это утро, тишина, легкая прохлада и солнце, просыпающееся вместе с тобой.
Моне с детства был упрямым мечтателем. В юности он не слушал учителей, рисовал шаржи на уроках и терпеть не мог академические правила. Он родился в Нормандии, возле Гавра, и именно море, облака и меняющийся свет стали его первой художественной школой. Писать с натуры – значит ловить то, что неуловимо. Он всю жизнь был одержим этой задачей. Уже в зрелые годы, поселившись в Живерни (в живописной деревне на юге Франции), он буквально построил себе мир – с прудом, мостиком, кувшинками, – чтобы наблюдать за светом и его переменами в течение дня и года. Его знаменитая серия «Кувшинки» писалась десятилетиями: утром, вечером, в пасмурную погоду и при заходящем солнце. И с каждой работой объекты становились все менее различимыми, а отражения, блики и цветовые переливы – все важнее. Его поздние полотна уже почти не содержат формы – только воду, свет и цвет как дыхание. Это уже почти чистая абстракция, о которой мы поговорим в одной из следующих глав. Моне буквально стирает грань между видимым и ощущаемым.
Если Моне был поэтом света и тишины, то еще один импрессионист, Пьер Огюст Ренуар, – это почитатель жизни и фигуры. В отличие от большинства импрессионистов, он не отказывался от сюжетности. Его картины – это не просто впечатление, а сцены, часто многослойные и насыщенные людьми. Женщины, флирт, музыка, вечер, шум, разговоры, движения – Ренуар не боялся показывать действия и эмоции. Он очень любил женщин, наслаждался прогулками: верховой ездой, пешими походами, театральными вылазками и городскими гулянками. Все это он изображал на своих холстах с невероятной теплотой.
Ренуар родился в простой семье. Сначала расписывал фарфор, потом перебивался портретами на заказ. Его здоровье подводило – в зрелости он заболел артритом, суставы скручивало, и он привязывал кисть к руке, чтобы продолжать писать. Но даже в самые трудные периоды он сохранял жизнерадостность. Его картины – как продолжение этой внутренней стойкости: они про удовольствие, общение, прикосновения, сияние кожи и шорох ткани. В его «Бале в Мулен де ла Галетт» вы не просто смотрите на сцену – вы оказываетесь внутри нее. Солнечные пятна пробиваются сквозь листву, лица слегка размыты, фигуры двигаются, все пульсирует. Это даже не воспоминание – это ощущение присутствия. Картина буквально шуршит шелком платьев и пахнет поздним летним вечером с его влажностью и предвкушением чудесных снов. При всей этой легкости – цвет у Ренуара довольно темный. В отличие от многих импрессионистов, он нередко использовал плотные, глубокие оттенки, даже черный цвет, особенно в ранних работах. Его гамма не просто яркая, а насыщенная и камерная – почти барочная по настроению. И все же – это импрессионизм. Только со своим лицом.
А вот Дега – совсем не про солнечные пятна. Он любил балет, но не как постановку, а как дело. Его балерины – не нимфы и не дивы. Это девочки, сутулящиеся у станка, поправляющие резинку на туфлях, уставшие, сосредоточенные, настоящие. В таких работах, как «Балетный класс» или «Голубые танцовщицы», нет сцены, нет театральности – есть репетиция, ожидание, звук скрипящего паркета, свет из окна и внутреннее напряжение.
Дега был человеком сложным и противоречивым. Происходил из обеспеченной семьи, учился в Италии, боготворил старых мастеров. Он ценил точность, графику, был одержим движением тела. При этом он с трудом переносил шумные компании и часто конфликтовал с коллегами. Он не считал себя настоящим импрессионистом, хотя участвовал почти во всех их выставках. Он не любил пленэр, предпочитал работать в мастерской, и чаще всего – по памяти. Его импрессионизм был другим – не про свет, а про взгляд. Про внимательность. Про то, как передать не «впечатление», а сосредоточенность. И в этом смысле его картины – это тоже опыт чувств, только внутренних, сдержанных, напряженных. Таким образом, у Дега импрессионизм не внешний, а внутренний и даже, можно сказать, с налетом рабоче-пролетарского настроения.
Ну, с импрессионистами Франции, кажется, разобрались. А что происходило тогда в нашей стране, конкретно – в тогдашней Российском империи? На мой взгляд, в Российской империи как такового импрессионизма не было. Ну хотя, вы знаете, Константина Коровина наши специалисты относят к импрессионистам за его широкие мазки, переливы света и попытку отобразить впечатление, а не сюжет. Он действительно писал быстро, эмоционально, локально – особенно в пейзажах и сценах с природой. Но при этом у него всегда чувствуется театральность, декоративность и особая нарочитая русская густота краски. Мое персональное мнение – что не очень-то он на импрессионистов и похож: у него все как-то чересчур постановочно, и свет не вибрирует, а стоит, как софит. Но, тем не менее, жил он в одну эпоху с Ренуаром, Дега и Моне, и, конечно же, его наши современные российские критики относят к импрессионистам, поэтому с хронологической точки зрения давайте с ними согласимся и запишем Коровина также в импрессионистский кружок.
Итак, запомним художников импрессионизма: самые главные имена —
Клод Моне, 1840–1926.
Эдгар Дега, 1834–1917.
Пьер Огюст Ренуар, 1841–1919.
И наш брат Константин Коровин, 1861–1939 :)
Глава 3. Как говорить об импрессионизме с ребенком
Котик, импрессионизм – это, на мой взгляд, самое красивое направление в искусстве.
Импрессионисты – это художники, которые любят играть со светом. Название этого художественного направления происходит от французского слова «импрессьен» – впечатление. Впечатление, которое можно передать светом.
Т. к. импрессионисты очень любили играть, они не всегда слушали своих учителей —традиционных художников. И несмотря на то, что их картины очень красивые, по слухам, слово «импрессионист» сначала было прозвищем художников, которые не следовали традиции, не учитывали мнение и советы мастеров, а вместо того чтобы четко рисовать мир вокруг, пытались изобразить на холстах свои впечатления от этого мира. Они очень любили прогулки, поэтому многие их картины выполнены на пленэре, то есть на свежем воздухе.
Импрессионисты сделали много открытий в рисовании. В природе существует 3 основных краски: синяя, желтая и красная. Смешивая эти цвета, художники получают все остальные цвета, существующие в природе. Говорят, что именно импрессионисты первыми стали активно применять цветовой круг, созданный сэром Исааком Ньютоном в 1666 г., и определили, что есть цвета взаимодополняющие: друг с другом они смотрятся ярче. Что же это за цветовой круг такой? Это способ представить цвета, которые способен видеть и различать глаз, в условном виде – в виде секторов. Секторы круга представляют собой определенные цвета, размещенные в порядке, близком к кому, как они различаются глазом. Этот круг помогает художникам и вообще людям, работающим с цветом, ориентироваться в пространстве цветов. Согласно этому кругу цвета, которые расположены друг напротив друга, дополняют и усиливают друг друга и называются комплементарными. Ты можешь использовать их и в рисовании, и в одежде. Например, если надеть желтую футболку и фиолетовые брюки, то вместе они будут просто сиять!
Импрессионисты есть и сегодня! Это очень-очень популярный стиль живописи. Он нравится многим людям, потому что картины импрессионистов пытаются передать эмоции радости, веселья, удивления, вдохновения…
А какие эмоции твои самые любимые? Какой цвет ты выбрал бы для того, чтобы эти эмоции изобразить на бумаге? Поделись с родителями своими красивыми мыслями на словах или в виде рисунков.
Глава 4. Фовизм
Если ты думаешь, что художники остановились на импрессионизме в своих экспериментах с цветом и внутренним миром, то это, конечно же, не так. Как и все в человеческой истории, импрессионизм не мог длиться вечно – он должен был либо раствориться, либо достичь апогея, т. е. своей максимальной точки развития. И этот апогей случился в таком дерзком и недолгом, но ярком, как вспышка, течении, которое получило название фовизм.
Фовизм – дикая эмоция в чистом виде, вырвавшаяся наружу. Если импрессионисты писали, как свет аккуратно ложится на предмет, то фовисты писали, как свет ощущается телом. Не тихое дыхание сада, а жар, вкус. Цвет перестает быть средством изображения – он становится носителем чувства. Красный – не потому что закат, а потому что гнев. Синий – не небо, а тишина внутри. На первой выставке фовистов 1905 года в Париже публика была просто шокирована такими картинами. Именно тогда критик Луи Воксель, увидев зону с работами художника-фовиста Анри Матисса, написал: «Донателло среди дикарей». Слово fauves – «дикари» – прилипло к авторам, и с тех пор за ними закрепилось название фовисты.
Это было что-то по-настоящему новое. Итак, в 1905 году, на Осеннем салоне в Париже, в Зале VII, зрители впервые столкнулись с этим цветовым ударом. На фоне всей выставки зал выглядел как вызов здравому смыслу: полотна полыхали, фигуры были грубыми, мазки – резкими, цвета – как будто выгорели на солнце. На стенах висели работы художников, которых никто толком не знал. Зал выглядел так, будто его залили краской из ведра. Посетители останавливались, морщились, отводили глаза. Газеты писали о варварстве. Публика негодовала, но… заметила. Это было столкновение нового поколения с прошлым. Поколение, выросшее на импрессионизме, но идущее дальше. Они уже не просто хотели ловить свет – они хотели кричать цветом. Это был начальный взрыв модернизма, яркий, краткий и потому особенно мощный.
Чем же фовизм отличался в своем проявлении? Во-первых, конечно же, цветом – очень ярким, абсолютно искусственным. Это был цвет неба, если бы его нарисовал ребенок флуоресцентным маркером. Цвет лица, как у куклы, которой сделали максимально праздничный макияж всей имеющейся в арсенале косметикой. Если импрессионисты искали тончайшие оттенки, фовисты словно говорили: «Нет времени на нюансы! Ударим по глазам!» Контраст красного и зеленого, синего и оранжевого – максимально резкий, плотный, почти химический. Во-вторых – мазки. Они не то чтобы были видимы – они будто дрались между собой. Быстрые, хаотичные, густые, с грубой текстурой, которая буквально вылезает из холста. В фовизме нет попытки спрятать живописную материю – наоборот, краска становится главным героем картины. В-третьих – форма. Ее почти нет. Очертания грубые, контур условный. Все напоминает детский рисунок или фрагмент из сновидения. Люди, дома, деревья – как будто их вырезали ножницами из цветной бумаги и приклеили на холст. Это нарочитая наивность – но сделанная осознанно. И в-четвертых – отсутствие сюжета (в еще большей степени, чем у импрессионистов). Или полный отказ от нарратива, т. е. рассказа истории. Здесь нет сказок, есть только одно: ощущение, энергия. Боль в глазах. Огонь внутри. Тот самый эмоциональный внутренний канал.
А теперь более подробно остановимся на Анри Матиссе. Он и сегодня остается главным символом фовизма – потому что на деле и в своих картинах он был самым диким. Удивительно, но для него фовизм был не протестом, а праздником. В его полотнах действительно нет драмы, нет страха, нет мучений. Там – воодушевление и наслаждение цветом. Это во многом связано с его личным опытом: в 21 год Матисс тяжело заболел, на несколько месяцев оказался прикован к кровати – и именно тогда впервые начал рисовать. Живопись стала для него спасением, источником покоя. И это навсегда определило его отношение к искусству: оно должно было лечить. Давать отдых глазу. Восстанавливать силы. Не ранить, а оживлять. Его знаменитый «Танец» показывает пять фигур, взявшихся за руки, танцующих на зеленой земле под синим небом. И кажется, что здесь нет ни одного анатомически точного движения. Лица без черт. Тела – всего по несколько линий. Но вы не можете не видеть: им хорошо. В их движении есть ритм, динамика, волна. Цвета – сочный охристо-оранжевый, насыщенный синий, ядовито-зеленый – не иллюстрируют, а говорят напрямую с нервной системой, передавая радость и увлеченность процессом самого танца.
Матисс, как и многие фовисты, отказался от привычного европейского наследия. Он вдохновлялся искусством Африки, Персии, Востока – теми культурами, где линия и цвет работают иначе. Он искал новую визуальную музыку, и его картины звучали. Не для разума, а для тела. Это было искусство, которое дышит и двигается. И в этом был он сам – человек мягкий, замкнутый, почти застенчивый, но с внутренним светом. Он пришел к фовизму уже в зрелом возрасте, осознанно выбрав этот путь как способ сказать миру: «Жизнь – это цвет».
Помимо Матисса, важными голосами фовизма были Андре Дерен и Морис де Вламинк, работы которых, так же как и работы Матисса, были представлены на Осеннем салоне 1905 г. Их стили написания работ были различны, но объединяло одно – стремление к чистой эмоции, переданной через цвет, хотя каждый выражал ее уже как-то по-своему.
Андре Дерен работал часто в мозаичной манере – его мазки напоминали вытянутые пятна, как будто заранее готовились к пуантилизму (еще одно направление в искусстве, в котором художники создавали свои работы не мазками, а буквально точечками цвета). Если подойти близко – кажется, что ты смотришь на абстрактную мозаику. Но когда отходишь на пару шагов – возникает образ: город, дерево, холм, небо. Его пейзажи всегда балансируют между конкретным и неуловимым. Главное у него – не что изображено, а что ты чувствуешь, когда смотришь: легкость, свежесть, солнечное тепло, радость тишины.
Сам Дерен был более рациональным, чем Матисс. Он любил порядок и структуру, не бросался в эпатаж, скорее – шел путем методичного эксперимента. Именно он первым начал отходить от фовизма, когда почувствовал, что исчерпал его возможности, и позже обратился к более классической живописи. Но в фовистский период он был одним из ключевых голосов этого движения.
Морис де Вламинк был другим. Его картины словно давят цветом. Он работал густыми, мощными мазками, как будто выкладывал краску шпателем. Цвета – насыщенный желтый, жгучий оранжевый, густой красный – буквально борются за внимание. Его работы не про сюжет, а про внутреннюю температуру. Их смотришь не глазами, а кожей. И ощущаешь: здесь эйфория, взрыв, энергия. Он был настоящим бунтарем: в молодости – велосипедист, потом – скрипач в кабаках, потом – художник, который пришел в живопись без какой-либо академической подготовки. Самоучка, который однажды увидел работы Ван Гога – и у него будто замкнуло внутри. Он считал, что живопись должна быть как удар. Как взрыв. И именно так он работал – импульсивно, эмоционально, почти яростно. Это не было искусством разума. Это было искусство тела, адреналина, скорости.
У каждого из них был свой голос, но все трое – Матисс, Дерен и де Вламинк – говорили на одном языке цвета, и именно они сформировали облик фовизма, каким он вошел в историю. Фовизм нередко воспринимается как продолжение импрессионизма – и действительно, у них есть общие черты: и там и там – свет, цвет, свобода мазка. Но между ними лежит важный сдвиг. Импрессионизм – это взгляд наружу. Это наблюдение за тем, как солнце играет на листьях, как вода мерцает на ветру. Художник как будто растворяется в моменте. Фовизм – это взгляд внутрь. Это не наблюдение, а выражение. Цвет у фовистов не передает видимое, он вызывает чувство. Импрессионисты хотят поймать свет, а фовисты – выплеснуть жар. Один дышит, другой – кричит. Один шепчет «вот так я вижу», другой заявляет «вот так я чувствую». И хотя фовизм как течение просуществовал всего несколько лет – примерно с 1905 по 1910 год, – его значение оказалось куда масштабнее. Он стал первым направлением, которое дало цвету полную автономию. Цвет больше не обязан был быть «естественным». Он стал языком. Эмоцией. Позицией. Их радикальность открыла дверь в новое искусство – где не сюжет определяет смысл, а внутреннее состояние художника. Они показали, что искусство может быть просто о том, что ты чувствуешь, – и этого будет достаточно.
Глава 5. Как говорить о фовизме с ребенком
Котик, попроси у своей мамы найти рисунки, которые ты делал в детском саду.
А если ты еще до сих пор ходишь в детский сад – то возьми самые яркие краски и просто нарисуй то, что ты видишь: дом, светофор, маму с папой, как солнышко светит.
Ой, солнышко вдруг получилось у тебя не желтое, а зеленое? Ну ничего страшного – это потому что ты так видишь. Фовисты – они как в детском саду. А французское слово «фов» означает «дикий». Но не тот, который «дикий-дерзкий, как пуля резкий», а тот, который пока еще не образованный. Фовисты заявили о том, что совсем необязательно изображать природу или людей такими, какие они на самом деле есть. Самое главное – передать энергию этих объектов.
Именно из-за этого их и прозвали «дикими» – потому что очень часто эта энергия зашкаливала. И в то время, в которое течение фовизм появилось, это вызывало сумбур. Вызывало в какой-то степени удивление и, может быть, даже отторжение у знатоков искусства того времени, которые привыкли, что в художественных салонах – всегда тишь да гладь, полное спокойствие, чаек наливают. Вот поэтому, если ты захочешь повторить традиции фовистов – бери самые яркие маркеры, бери самые необычные цвета и пиши, как ты чувствуешь, пытаясь передать энергию окружающего мира. У тебя точно получится! Ведь так может каждый ребенок, а уж тем более – такой талантливый, как ты!
Часть 3. Переосмысление формы
Глава 6. Переосмысление формы – предисловие
Шалом, котик! В прошлой части книги, как ты помнишь, мы говорили о роли художника и о том, что с появлением фотографии появился и вопрос: в чем, собственно, эта роль состоит? Что теперь войдет в анналы истории? И что художники с философской точки зрения будут оставлять после себя? Тогда начались эксперименты с цветом. Тогда начались попытки описать внутренний мир, создать его впечатление на холсте – и появился импрессионизм, а за ним – и фовизм как направления, которые далеко не сразу были встречены широкой общественностью с пониманием.
Помимо экспериментов с цветом художники начали искать какие-то новые пути и новые возможности самовыражения – в форме того, как еще можно изобразить на холсте внешний или внутренний мир автора. А ведь каждое изображение действительно можно разобрать на составные геометрические части, представив зрителю некий конструкт, остов, инвентаризацию действительности. И тем самым как будто оставить больше воздуха для собственной мысли смотрящего. Выставить диалог со зрителем на передний план. Зачем? Ну, кажется, интереснее общаться, чем просто созерцать… давайте обсудим.
Глава 7. Винсент ван Гог
Но эти геометрические эксперименты появились не вдруг. И форма начала меняться не вдруг. И не по правилам. Ее первым как будто раскачал не рассудок, а чувство. До всех тех, кто будет потом рассуждать о перспективах, геометрии и логике построения картины, появился человек, который просто слишком остро все чувствовал, – чувствовал боль и напряжение. Слишком сильно переживал – и не мог больше писать «как привычно». Это был Винсент ван Гог.
Обычно его относят к постимпрессионизму, еще одному направлению, которое сложилось после импрессионизма, указывая на яркий цвет, активный мазок, сюжетную близость к реальности. Но на самом деле Ван Гог – отдельная планета, к которой невозможно применить простые ярлыки. Он прожил жизнь на грани – с постоянной тревогой, приступами душевной болезни, одиночеством, которое не проходило даже среди людей. Его не принимали – ни в обществе, ни в семье, ни в профессии. Он все время чувствовал себя лишним, неудобным, лишенным места в этом мире. А когда чувствует не только разум, но и тело – все вокруг становится слишком громким, слишком ярким, слишком близким. И он писал – чтобы это хоть как-то выдержать. Если импрессионисты смотрели на свет, он – вовнутрь себя. Ван Гог писал не то, что видел, а то, что переживал. Его картины – не про мир снаружи, а про то, как этот мир больно отзывается внутри. Его творчество – не логика и не наблюдение. Это эмоциональный срыв, перенесенный в форму. И он не просто усиливает цвет, как это сделали фовисты. Он делает так, что все в картине начинает вибрировать, – и пространство, и линии, и сами предметы. Если фовисты дали цвету свободу, то Ван Гог заставил форму кричать вместе с ним. У него все дрожит, пульсирует, будто мир расплавился и стал тревожным. Деревья изгибаются, как будто их бьет током. Звезды крутятся по небу, как водовороты. Дома перекошены. Все узнаваемое – но все будто на грани срыва. И форма, привычная форма предметов, становится частью этого срыва. Она теряет устойчивость, и именно в этом – смысл. Ван Гог не описывает мир, он в нем сгорает. И потому его изображения становятся не результатом наблюдения, а отпечатком внутренней боли.