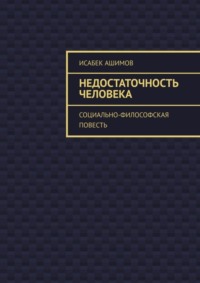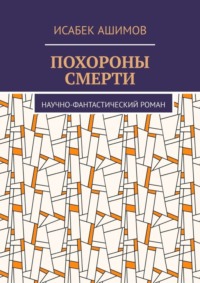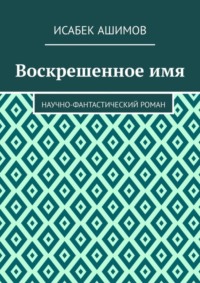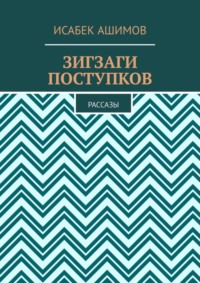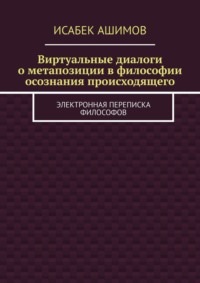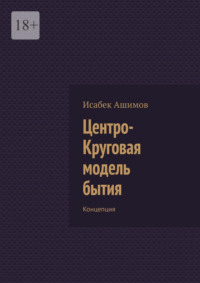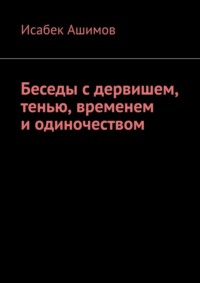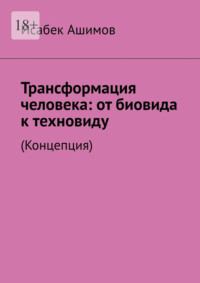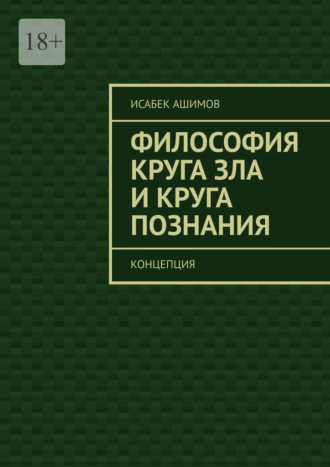
Полная версия
Философия круга зла и круга познания. Концепция
Главными противниками «биологического» аргумента являются сторонники теории «воспитания», рассматривающие проблему зла с бихевиористской или бихевиористско-социологической точки зрения. Зло происходит не от человека, а от общества. Но ортодоксальные бихевиористы, последователи Скиннера, не только затемняют саму проблему зла своим догматическим редукционизмом, но могут нанести огромный практический ущерб человечеству своими проектами социальной инженерии [Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – Инвест-ППП, 1995]. Однако, как биологические, так и бихевиористские аргументы оставляют без внимания наиболее важный аспект проблемы зла – гуманитарный аспект ответственности, свободы и сознательности человека. Человек имеет свободу, достоинство и ответственность [Экхарт Майстер. Трактаты. Проповеди. / Ответственный редактор Н. А. Бондаренко. – М.: Наука, 2010. – 438 с.].
Третий поход к проблеме зла предлагает гуманистическая психология, системы таких психологов, как З. Фрейд, К. Юнг и Л. Франкл, которые настаивают на том, что необходимо говорить о психической реальности, как сознательной, так и бессознательной. Разум позволяет нам, для достижения наших человеческих целей, действовать свободно и независимо от тех ограничений, которые устанавливают биологические и бихевиористические детерминисты [Рассел Б. Сатана. – М.: Наука, 2007].
Э. Фромм (1900—1980) в «Анатомии человеческой деструктивности» различает «биологически адаптивную агрессию», которая может быть следствием инстинкта, и «деструктивность и жестокость». В одном случае целью является защита, в другом – разрушение. Генетическая предрасположенность и внешние проблемы могут способствовать деструктивности, но они не могут быть ее достаточной причиной [Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. – 670 с.].
Другие гуманистические психологи иначе рассматривают проблему зла. К.Г.Юнг и Э. Нойманн, считают, что подавление деструктивных желаний постепенно создает «тень», негативную энергию личности, которая может проявиться внезапно. Те чувства, которые вы подавляете, не исчезают, но замыкаясь в бессознательном, могут стать одной из причин вашего отвращения к самому себе, могут привести к язве или другим подобным симптомам, или же они могут побудить вас спроецировать вашу собственную враждебность на других. Именно перспектива глубинной психологии, и особенно теории Юнга, наиболее многообещающи для понимания сущности Дьявола [Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного бессознательного. – М., 1991)].
По К. Юнгу, психическое развитие – это процесс индивидуализации. В начале человек имеет лишь хаотическое, недифференцированное представление о самом себе. По мере его развития, добрая и злая стороны в нем отделяются друг от друга. Обычно человек подавляет в себе зло, в результате чего тень в его подсознании разрастается. Если механизмы подавления слишком сильны, то тень эта может достигнуть чудовищных размеров и, переполнив его, внезапно прорваться наружу [Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991].
Древние, но распространенные до сих пор представления о происхождении зла хорошо известны. Во многих христианских и буддийских учениях зло есть ничто, как отсутствие добра. Согласно другому, христианскому истолкованию, зло является следствием первородного греха и поэтому, в конечном счете, зло есть результат свободы воли [Экхарт Майстер. Трактаты. Проповеди. / Ответственный редактор Н. А. Бондаренко. – М.: Наука, 2010. – 438 с.]. Дуализм постулирует два противоположных принципа, добра и зла, приписывая зло воле порочного духа.
Дж. Б. Рассел с первых страниц своего капитального труда напоминает о том, что «история идей» или история образов зла, это и есть исследование, обращенное к тем струнам человеческой души, которые отзываются на боль и страдания людей. Виды боль и страдания иллюзорны, зло – само боль и страдание. Автор утверждает, что любая попытка рассуждать о том, с чем сталкивался древний, средневековый или современный человек, когда он получал опыт зла, с точки зрения объективной науки не может дать ничего.
Авторский метод концептов дает возможность увидеть процесс «фокусировки взгляда» человека на природе зла. Он постепенно выделяет особое начало, ответственного за зло – дьявола. Нужно заметить, что лишь поздний ветхозаветный иудаизм и раннее христианство формируют представление о таком начале зла, ассоциирующейся с болью, страданием, разрушением, несправедливостью [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
История восприятия человеком зла охватывает огромный материал [Элиаде М. Космос и история. Избр. труды. Пер. с фр. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 142 с.]. В абхазском эпосе Агулщап – дракон, похититель молодых девиц. Сасрыкве удаётся отсечь голову у чудовища, но на её месте тотчас же отрастает новая. Лишь когда Сасрыква догадывается присыпать это место золой, дракон оказывается побеждённым. В иранской мифологии Анхра-Манью является символом отрицательных побуждений человеческой психики – прегрешения, чародейство, колдовство, смерть, болезни, старость. Анхра-Манью как один из творцов миропорядка и полюсов бытия никогда не исчезает полностью, он восстает и восстает.
В египетской мифологии Апоп – огромный змей, олицетворяющий мрак и зло, извечный враг бога солнца Ра, обитает в глубине земли. Ра в образе рыжего кота отрезает голову Апоп, но вместо него вырастает новая. В ортодоксальной христианской системе Архонты безусловно преданы злу, это вполне недвусмысленно бесы, слуги дьявола, он сам, они находятся с замыслами бога в очень сложных отношениях, будучи абсолютно злым и пребывая в греховном невежестве относительно существования бесконечно, но превосходящего его абсолютного бога [Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. – К.: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. – 384 с.].
§9. О горе как символе. В мифологии особое значение придается различным природным объектам. Народное сознание склонно считать легендарные святые места вполне реальными, а не вымышленными. Тогда как ученые имеют на этот счет свое мнение. Им в большинстве случаев не удается идентифицировать легендарные топонимические и географические объекты с реально существующими. Несмотря на это, народ продолжает считать или предполагать. Очевидно, что фольклор кыргызского народа проливает свет на происхождение природных и рукотворных святынь [Тогусаков О. А. Мир понятий: от мифа к теории. – Бишкек: Илим, 2003. – 145 с.].
Что же мы считаем святым местом, какие объекты и явления? И что нам могут поведать народные предания и легенды о святых местах нашего края? Начнем с того, что святым местом считается природный (гора, озеро, река, дерево и т.п.) или культурный, то есть созданный руками человека, объект, который почитается людьми как обладающий какими—то особыми свойствами (чаще всего целительными), особой энергетикой [Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию / пер. с нем. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 368 с.]. Но как святыни народ почитает и те места, которые связаны с какими—то достопамятными событиями легендарного или исторического прошлого.
Кыргызы поклонялись священным горам и приносили духам гор жертвы. Многое говорят нам о святых местах природного и искусственного происхождения эпические сказания. Как святые места, или мазары, почитаются кыргызами некоторые географические и топонимические объекты [Ашимов И. А. (Кара Дабан). Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.].
Символизм и мифологические функции горы многообразны. Как символ, Гора выступает в качестве наиболее распространённого варианта трансформации древа мирового, часто воспринимается как образ мира, модель вселенной, в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства [Карпинская Р. С., Лисеев И. К., Огурцов А. П. Философия природы: коэволюционная стратегия. – М., 1995]. Гора находится в центре мира – там, где проходит его ось Продолжение мировой оси вверх (через вершину Горы) указывает положение Полярной звезды, а её продолжение вниз указывает место, где находится вход в нижний мир, в преисподнюю. Основание же Горы приходится на «пуп земли».
Характерно, что в мифологических традициях, где образ мировой Горы особенно развит, образ мирового древа либо несколько оттеснён, либо вовсе отсутствует, хотя и существуют многочисленные примеры их совмещения: дерево на Гору или гора, покрытая лесом или садом. Нередко понятия Гора и леса передаются словами общего корня. Мировая Гора трехчленна. На её вершине обитают боги, под ней (или в её нижней части) – злые духи, принадлежащие к царству смерти, на земле (посередине) – человеческий род.
Нередко наиболее детализированы описания в мифах верхней и нижней частей мировой Горы, в ряде случаев очень близкие по структуре описаниям неба и нижнего мира. Наиболее классический тип мировой Горы – величайшая гора Меру в индуистской мифологии и космографии [Олейников Ю. В. Мировоззрение и экологическая проблема // Философия и экологическая проблема. – М., 1990]. Она находится в центре земли под Полярной звездой и окружена мировым океаном. На трёх её вершинах – золотой, серебряной и железной – живут Брахма, Вишну и Шива или тридцать три бога, составляющих пантеон; внизу – царство асур. На каждой из четырёх Гор, окружающих Меру, стоит по огромному дереву, указывающему соответствующую сторону света [Юрьева Л. Н. Кризисные состояния: монография. – Днепропетровск: Арт-Прес, 1998. – 226 с.].
В буддийских текстах наряду с Меру выступает и Химават, именуемая как «Гора-царь». В центральноазиатских традициях и у ряда алтайских народов (Сумер, Сумур, Сумбур и т.п.) гора нередко представляется как железный столб (иногда железная Гора), который находится посреди земного диска и соединяет небо и землю, вершиной своей касаясь Полярной звезды. Иногда Гора (Сумбур) стоит на пупе перевёрнутой богом морской черепахи, на каждой лапе которой покоится особый материк. В других вариантах сама Полярная звезда – остриё дворца бога, построенного на вершине Горы.
По представлениям калмыков, звёзды вращаются вокруг Сумеру. Согласно мифам некоторых алтайских народов, на вершине этой Горы живут тридцать три тенгри. В ламаистской мифологии Гора (Сумеру) в форме пирамиды окружена семью цепями гор, между которыми находятся моря. Каждая сторона пирамиды имеет цветовую характеристику: южная – синий цвет, западная – красный, северная – жёлтый, восточная – белый. Однотипные соответствия известны в Индии, Тибете, Китае и даже в традициях некоторых племён индейцев Америки. Так, индейцы навахо верили, что чёрные (или северные) горы покрывали землю тьмой, синие (или южные) приносили рассвет, белые (или восточные) – день, жёлтые (или западные) – сияющий солнечный свет [Юрьева Л. Н. Кризисные состояния: монография. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 226 с.].
У алтайских народов нередко описания Горы, несмотря на отсутствие названия, повторяют характеристику Сумеру. В центральноазиатском мифе бог трижды опоясывает Сумеру огромным змеем Лосуном. Образ мировой Горы обычно не соотносится с реальной Горой, несмотря на то, что, например, у алтайских народов мифологизируются разные реальные горы и особенно сам Алтай, именуемый, в частности, «Князем» («Ханом») и олицетворяющий образ родины алтайцев, её природы.
Однако, и реальные географические объекты часто не только почитались, обожествлялись и соотносились с особым божеством или духом-покровителем, но и дублировали мировую Гору в её функции моделирования вселенной. Так, уже в Древнем Китае существовал культ пяти священных Гор: 1) Хэншань в Шаньси (символ севера); 2) Хуашань в Шэньси (символ запада); 3) Хэншань в Хунани (символ юга); 4) Тайшань в Шаньдуне (символ востока); 5) Суншань в Хэнани (символ центра). В дальнейшем каждая Гора обрела своих божеств-управителей и свою сферу влияния.
Среди этих пяти гор особым почётом пользовалась Тайшань, которой поклонялись и на которой приносили жертвы небу. Считалось, что там находится вход в загробный мир. В течение многих веков эта гора застраивалась храмами, монастырями, кумирнями, арками. Её божеству-повелителю, духу – судье загробного мира были посвящены храмы по всей стране. Китайская традиция почитания гор, попытка объединения их в классификационную систему засвидетельствована в «Книге гор и морей» («Шань хай цзин»). Само появление гор и их расположение связывалось с деятельностью мифического покорителя потопа и устроителя земли великого Юя, который не только рассекал и передвигал горы, чтобы избавиться от последствий потопа, но и дал названия трёмстам горам [Подосинов А. В. Картографический принцип в структуре географического описания древности (Постановка проблемы) // Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – М., 1978].
Две связанные друг с другом мифологемы – Гора-небо и Гора-нижний мир – объясняют многие мифологические параллели и целую серию мифов. Гора как местопребывание богов – один из устойчивых мифологических мотивов (Меру – Сумеру, Олимп в греческой традиции, Джомолунгма – Эверест в традиции северного буддизма, китайская Необречённый на смерть младенец Эдип; с этим местом связан миф об убийстве Лика), Осса и Пелион (мифы о гигантомахии и об Алоадах), Ниса (где родился и был воспитан нимфами Дионис), Отрис (где Кронос готовился к битве с Зевсом), Этна (эту гору Зевс нагромоздил на Тифона; в ней помещалась кузница Гефеста; с огнём, добытым в Этне, Деметра разыскивала Персефону), Ида (где Зевс скрывался от Кроноса), Кавказские горы (место, где был прикован Прометей).
Ветхозаветная традиция особо отмечает целый ряд гор: 1) Синай (где Яхве открыл Моисею 10 заповедей); 2) Сион (царская резиденция Давида); 3) Оливет (трёхвершинная Гора, почитавшаяся как местопребывание Яхве); 4) Мориах (место встречи Давида с ангелом; здесь же был построен храм Соломона в Иерусалиме); 5) Арарат (миф о потопе); 6) Геризим и Эбал (горы, отражающие как эхо благословения и проклятия); 7) Кармел (символ верности и плодородия).
Подосинов А. В. в своей книге «Картографический принцип в структуре географического описания древности (Постановка проблемы) // Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – М., 1978) приводит перечень сакральных гор: 1) Гора Запада в Древнем Египте считалась царством мёртвых, а в Вавилоне Гора почиталась как место суда; 2) Фудзияма и Такатихо (где небесные внуки спустились на землю) в японской мифологии (представление о Горе как об источнике пищи и жизни у японцев; некоторые сходные мотивы известны и в Китае-Гора, представляемая как голова Пань-гу); 3) Демавенд (связанная с Ажи-Дахака); 4) Хара Березайти («железная Гора», к которой, согласно «Бундахишну», прикреплены звёзды) в иранской мифологии; 5) Гунтанг Махамеру у малайцев, на которую пришли трое юношей царского рода («Седжарах Мелаю»); 6) высокая Гора в центре земли, где поселился Магам (качинская версия творения мира, Бирма); 7) Маунгануя у маори, на которую пришёл Тане просить у своего брата Уру его детей – Светящихся; 8) Нгераод у меланезийцев (с этой горой связана история чудесного свёртка, дающего вечную жизнь); 9) горы Ту-моуа у полинезийцев, созданные божественным мастером Ту; 10) Эльбрус, к которому каджи приковывают Амирани (у грузин); 11) Масис (Арарат), где то же самое происходит с Артаваздом (у армян); 12) гора Монтсальват бриттского варианта легенды, связанной с Граалем; 13) Броккен или Химинбьёрг («небесная Гора») в германской традиции; 14) горы Перкунаса у литовцев и пр.
Нередко встречаются двойные горы или же две отдельные горы, часто противопоставленные друг другу (Белая гора и Чёрная гора; Белобог и Чернобог; Святые горы и Лысые горы и др.), как соответствующие местопребывание добрых и злых духов (Святогор и Змей Горыныч; Тамар и гора Шода и др.). Иногда речь идёт об одной Горе, на которой живут брат и сестра, вступающие в брак и дающие начало человеческому роду (Фу-си и Нюй-ва на китайской горе Куньлунь). Эта тема божественного инцеста связывается с двумя горами или с одной.
В соответствующих мифах и легендах описаны божественные персонажи связаны с вершиной Горы, то отрицательные персонажи (злые духи, разного рода подземные гномы, поверженные чудовища, змеи, драконы, титаны, принадлежащие к поколению, которое старше богов) обычно связаны с низом Горы и даже с её внутренностью, уходящей в подземное царство. Иногда эти существа выступают как духи Горы, стражи её сокровищ – один из частых в мифологии, в других случаях они открыто враждебны человеку (тролли), заманивают и убивают его, устраивают землетрясения, изрыгают огненную лаву.
С особенностями ряда гор (Чортова гора, горы Семи дьяволов, Адская гора и пр.) соотносят мотив как входа в нижний мир, как и параллельный ему мотив – Гора как вход в верхний мир. В ряде сказок, как и в аналогичных им мифах, оба этих мотива обыгрываются порознь (спуск под землю, в колодец, яму, пещеру или подъём на гору, на дерево, по лестнице, цепи, верёвке) или даже совмещаются. Этим объясняется и культ пещер, распространённый в ряде традиций, и его теснейшая связь с культом гор. Современный корейский обряд «поклонения пещере» включается в праздник «Поклонения Горе», когда у Горы вымаливают дождь, что согласуется с древней индоевропейской мифологемой о Горе желавшей дождя; включающем в себя миф о боге грозы [Подосинов А. В. Картографический принцип в структуре географического описания древности (Постановка проблемы) // Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – М., 1978].
Старые китайские источники упоминают о «пещере Су» – пещере подземного прохода в царство мёртвых, связанной, как и корейский ритуал, с пережитками медвежьего культа. В частности, пещера – это место зачатия первопредка медведя. Вообще в качестве духов гор или пещер нередко выступают животные (тигр в странах Юго-Восточной Азии или медведя-гризли у индейцев Северной Америки).
Культ гор не всегда отделим от культа камней, широко известного в горных районах Центральной и Восточной Азии принесением жертв на горе, на камнях, сопровождаемых просьбами о плодородии, о потомстве. Гора иногда связывается и мифологема о каменном небе. В индоевропейском мифе громовержец находящийся на Горе или каменной скале, каменным оружием (гром-гора, гром-камень) поражает его противника (змея), находящегося внизу, нередко под Горой.
Мифологизированные исторические предания о начале данной традиции также обычно сохраняют мотив Горы [Сагатовский В. Н. Философия антропокосмизма в кратком изложении. – СПб., 2005. – 232 с.]. Нередко в образе Горы воплощается основатель традиции: так, родоначальница корейского государства, мифическая прародительница, стала гением земли, вечно обитающим на священной Горе. У некоторых малайских племён предками вождей считаются два человека с гор, основание городов-княжеств относится к «высоким местам», а цари первого крупного индонезийского государства именовались Шайлендрами – царями гор.
Широко известен обычай устраивать жертвенник, алтарь, храм, трон, кладбище, разного рода религиозные символы, возжигать огни именно на Горе или возле Горы. Иногда ритуал принимает весьма специализированную форму, как, у индейцев навахо, имитирующих подъём на Гору, где люди – орлы, и поединок с их врагами, за победу в котором герой получает как высшую награду и символ физической и духовной целостности так называемую «горную песнь». Сама форма сооружений религиозно-ритуального назначения обычно имитирует форму Горы, соответственно перенимая и особенности её структуры, и символику её частей. В этом смысле пирамида, зиккурат, пагода, храм, ступа, чум и арка могут рассматриваться как архитектурный образ Горы, её аналог.
С древним мифологическим образом мировой Горы связана длительная традиция изображения гор (священной Горы) в архаичных формах искусства, ещё не отделённого от ритуала, а позднее в христианской иконописи, итальянской или североевропейской живописи XVI – XVII вв. (М. Джотто, А. Альтдорфер, Й. Момпер, Р. Саверей, К. де Конинк и др.) [Хесле В. Философия и экология. – М.: Наука, 1993. – 205 с.]. Такая традиция в особенности была распространена в дальневосточном искусстве (китайская живопись гор, «Легендах горы Сиги», в японской живописи «36 видов Фудзи»).
Помимо основного мифа о борьбе громовержца со змеем и широкого круга примыкающих к нему текстов, образ Горы выступает в ряде космологических мифов и во многих легендах и мифах: 1) Предание филиппинских набалои о том, как бог солнца Кабуниан, проспорив людям, должен был создать горы, чтобы люди могли по ним ориентироваться; 2) Сказание североамериканских индейцев о том, как Койот превратил семь дьяволов в горы, спасши тем самым людей; 3) Литовские и белорусские предания о возникновении гор из камней, которые бросались великанами или из самих великанов, после того как они окаменели; 4) Грузинская сказка о появлении Кош-горы из грязи, которая попала в коши (обувь); 5) Полинезийские сказания о создании из песка скалы, из скалы острова, из острова Горы, из островов плавучие горы Манга-рева; 6) Маорийский миф о расходящихся в разные стороны горах (мифы о горах-миражах, о горах-усыпальницах и т.д.).
Использование образа Горы в фольклоре, с одной стороны, продолжает мифологическую и ритуальную традицию, с другой же – обнаруживает процесс демифологизации и десакрализации образа, который становится простым локальным указателем [Свасьян К. А. Философия символических форм Кассирера. Критический анализ. – Ереван, 1989].
§10. О пещере как символе пустоты и хаоса. Существует тесная связь между горой и пещерой, поскольку и та, и другая берутся за символы духовных центров, каковыми, собственно, являются также, по причинам вполне очевидным, все «осевые» или «полярные» символы, среди которых гора – один из главнейших. Напомним, что под этим углом зрения пещера должна рассматриваться как расположенная под горой или внутри нее, что еще более усиливает связь, существующую между этими двумя символами, которые в некотором роде дополняют друг друга. Взаимосвязь двух феноменов нами описана в ряде наших работ – в романе «Тегерек», в монографии «Антропофилософия мифа и неомифа», «Край каньонов и пещер», в которых отражены целый ряд пещер (Кара-Камар, Астын-Устун, Келин-басты) как обители зла.
Надо, однако, заметить, что гора имеет более первозданный характер, нежели пещера. Это следует из того, что она видима снаружи, и притом со всех сторон, в то время как пещера, напротив, является, как мы уже сказали, местом по самой своей сути скрытым и закрытым [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1980]. Отсюда легко заключить, что отождествление духовного центра с горой соответствует именно первоначальному периоду земного человечества, в течение которого вся истина целиком была доступна всем (вершина горы – «место истины»).
Но когда, вследствие нисходящего хода цикла, та же самая истина стала доступна лишь для более или менее ограниченной «элиты» и скрыта от большинства людей, пещера сделалась символом более подходящим для духовного центра и, следовательно, для разного рода святилищ, которые являются ее образами [Топоров В. Н. От космологии к истории (к характеристике раннеисторических описаний) // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – С.59].
Вследствие такого изменения, центр, можно сказать, не покинул гору, но лишь ушел с ее вершины в глубину. С другой стороны, это же изменение есть, своего рода, «инверсия», в силу которой, «небесный мир» стал, в некотором роде, «подземным миром». И эта «инверсия» получает выражение в соответствующих схемах горы и пещеры, которые в то же время выражают их взаимодополняемость [Суворова О. С. Человек: душа и тело, смерть и бессмертие. – М., 1994].
Схема горы, как и схема пирамиды и кургана, которые являются ее эквивалентами, есть треугольник, вершиной вверх, тогда как схемой пещеры, напротив, является треугольник, вершиной вниз, стало быть, обратный по отношению к первому. Этот опрокинутый треугольник является также и схематическим изображением сердца и чаши, которая обычно уподобляется ему в символике Св. Грааля. Некоторые авторы подчеркивают, что эти последние символы или их подобия, с более общей точки зрения, соотносятся с пассивным, или женским принципом универсальной проявленности, либо же с одним из его аспектов, тогда как те, что схематически изображаются треугольником вершиной вверх, соотносятся с принципом активным, или мужским.
С другой стороны, если поместить оба треугольника один под другим, что соответствует расположению пещеры под горой, то можно увидеть, что второй может рассматриваться как отражение первого. Такая идея отражения хорошо согласуется с соотношением символа производного с символом первоначальным, в соответствии с соотношением горы и пещеры, понимаемых как последовательные олицетворения духовного центра в различных фазах циклического развития.
В обратном соотношении указанных выше двух символов, именно гора соответствует идее «великости», а пещера – идее «малости». Аспект «великости» соотносится, кроме того, с абсолютной реальностью, аспект же «малости» – с внешней видимостью проявленности [Хоружий С. С. Конституция личности и идентичности в перспективе опыта древних и современных практик себя // Вопросы философии. – 2007. – №1. – C. 75—85]. Стало быть, совершенно нормально, что первый олицетворяется символом, соответствующим «изначальному» состоянию, а второй – тем, что соответствует последующему состоянию «помрачения» и духовной «потаенности». Если же наложить один треугольник на другой, то получится фигура «печати Соломона», где два противоположных треугольника равным образом олицетворяют два взаимодополняющих принципа в различных вариантах их применения.