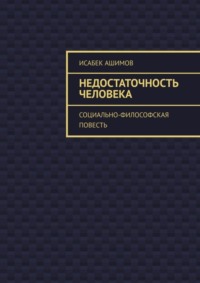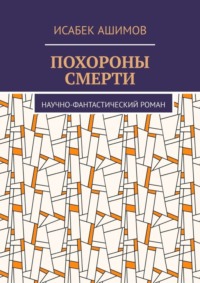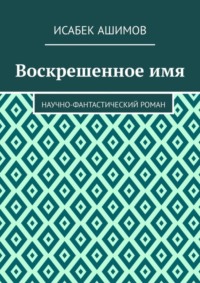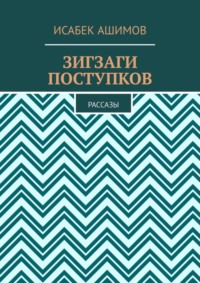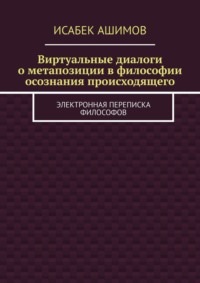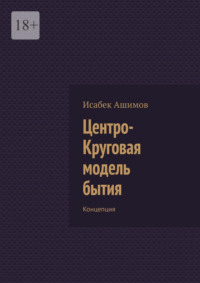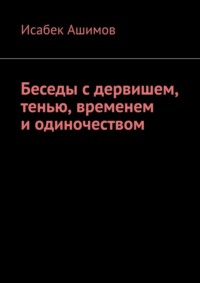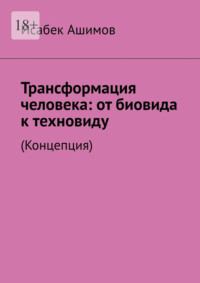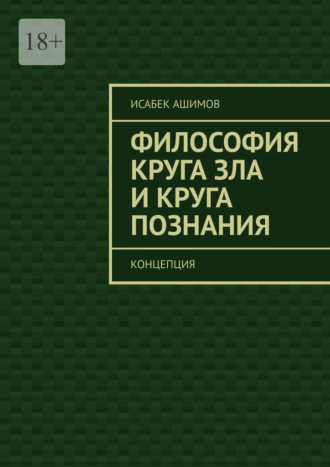
Полная версия
Философия круга зла и круга познания. Концепция
Среди подходов, задающих алгоритмы понимания культурного символа, выделяются как наиболее влиятельные: 1) Морфология Шпенглера с ее вычленением биоморфных первосимволов творчества; 2) Марксистская и неомарксистская социология, разоблачающая культурную символику как превращенную форму классовых интересов; 3) Структурализм и семиотика, стремящиеся найти и описать устойчивые закономерности порождения смысла знаками и значащими системами; 4) Психоанализ, сводящий символотворчество культуры к защитной трансформации разрушительной энергии подсознательного; 5) Иконология, расширившая искусствоведение до общей дисциплины о построении и передаче культурного образа; 6) Герменевтика, онтологизирующая символ, перенося при этом ударение не столько на него, сколько на бесконечный, но законосообразный процесс его интерпретации; 7) Диалогизм и трансцендентальный прагматизм, делающие акцент на непрозрачности и нередуцируемости культурного символа, обретающего смысл в межличностной коммуникации.
Важным сакральным геометрическим символом (Мандалой) является Колесо Закона (Дхарма), которое традиционно изображают в виде колеса с пятью, шестью или восемью спицами. Колесо Дхармы символизирует законы карма и реинкарнация – бесконечного и непрерывного круговорота рождения, смерти и нового рождения человека. Каждый народ, каждая эпоха каждый человек создавал свою систему символов, которой доверял, и которая была для него определяющей [Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. – М., «Советская энциклопедия», 1983].
Символ, как это схематичное, отвлеченное, многозначное отображение образа предмета, понятия или явления подразделяется на следующие виды: 1) Магические (обладают магической силой или используются в различных магических практиках); 2) Не магические (не обладают магической силой и не применяются в магических целях) [Нестеров А. Ю. Проблема пространственного моделирования символической целостности эстетического объекта. – Самара, 2002].
По степени сложности выделяют символы: простые (состоящие из одного символа) и сложные (состоящие из группы простых символов, объединенных логически, и имеющих в таком объединении свой смысл, отличный от смысла составляющих его простых символов) [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1980]. По уровню абстрактности выделяют символы:
1) Конкретные (упрощенное изображение определенных явлений реального мира – символ-понятие (отражающие идеи, чувства или абстрактные качества, связанные с внутренним миром живых существ); символ-образ (имитирующие форму существа или предмета, с которым они связаны);
2) Абстрактные (существующие в незапечатленной или смешанной форме) – невидимые символы (абстрактные идеи и умозрительные картины, не существующие в материальной форме); ритуальные обряды и действа (магические символы основанные на звуковом или жестовом ряде) [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1980].
По форме выражения выделяют символы: 1) Графические (которые могут быть начерчены или нарисованы на плоскости; 2) Предметные (которые выражаются в вещественной материальной форме; 3) Аудиальные (которые нельзя выразить графически (песни, музыка, названия, имена и т.д.); 4) Жестовые (выражаемые движениями (танцы, жесты) [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1980]. По происхождению выделяют символы: 1) Природные (которые являются естественными); 2) Искусственные (которые, так или иначе, были созданы или придуманы человеком); 3) Символы знаков (которые одновременно являются знаками); 4) Символы цвета; 5) Геральдические; комбинированные (которые имеют одинаковое значение в разных категориях, сюда же можно отнести научные символы) [Символы в культуре. – СПб., 1992].
Нужно отметить, что символ как категория построения и анализа научного либо художественного текста достаточно широко используется, но еще не нашёл своего общепризнанного понимания. В этом плане понимание символа требует выполнения соответствующих предпосылок рассмотрения текста и его структурность, и особый характер понимания, на которое ориентированы явления символического характера [Философия: Энциклопедический словарь. / Под редакцией А. А. Ивина. – М.: Гардарики 2004. – 1072 с.]. Это предполагает выдвижение той или иной ситуации «понимания» на первый план исследования, где из понимания оказывается возможным реконструкция структуральной ситуации «знания».
§8. О целях и задачах символизации. В мифотворчестве для нас было важным формирование художественно-философских объект-предметов (гора-саркофаг, ажыдар, пещера, кара-бахшы и др.), как символов в акте означивания-символизации, которые играли бы двойную смысловую активность: 1) как символы зла, злобности, тьмы и пр.; 2) как символы борьбы, победы, поражения. Философская база представлена трудами М. Мамардашвили, А. Лосева, Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Томашевского, Р. Якобсона, Ю. Лотмана, В. Топорова, Ж. Женнета, Р. Барта, М. Фуко, Я. Мукаржовского, Ф. Водички, У. Эко, Ц. Тодорова, М. Бахтина, Х.-Г. Гадамера, В. Изера, Р. Яусса, Р. Ингардена, М. Риффатера, С. Фиша и др. [Антология мировой философии. – В 4-х т. – М.: Мысль, 1969—1972].
В соответствии с проблемой исследования выделяются три базовых типа пространства и времени: 1) Пространство и время, изображённые в тексте, позволяющие говорить об изображённом в тексте хронотопе; 2) Пространство и время самого текста позволяющее представить множественность конкретизаций разделов, акцентируя плоскость означивания как план выражения текста, взаимозависимый с планом его содержания; 3) Пространство и время объекта, позволяющих сформулировать представление об объекте как особом коммуникативном пространстве, возникающем в точке встречи смыслообразующей активности реального сознания со смыслообразующей активностью художественного текста.
Уровни содержания и формы нами определены через напряжение между смыслом и материалом, каковые с точки зрения реального процесса чтения-означивания являются практически неуловимыми моментами, требующими постоянной актуализации, а с точки зрения мифологического объекта как результата свершившегося акта чтения – определёнными константами целого, позволяющими увидеть этот объект как поле напряжения между материалом и смыслом, а само это напряжение – как взаимодействие содержания и формы [Нестеров А. Ю. Прагматика категории символа в герменевтическом контексте. – Самара, 2002]. Изображённые события и события изображения представляют определённую позицию автора в актуализации текстовых стратегий.
Важным для исследования мифологических объектов с учётом параллелизма явлений языка и символов является введённое М.К.Мамардашвили (1930—1990) представление о двух типах концептуальных опор, на которых строится исследование таких явлений: 1) Синтагматической (вторичной моделирующей системе, каковым является миф); 2) Парадигматической (метавысказывании о предмете, конституирующем предмет, то есть речь идет о прагмеме). Нужно отметить и важность для анализа акта означивания, сформулированные автором четыре принципа понимания, которые мы применяем в исследовании используемых символов: принцип конечности; принцип понятности; принцип сингулярности феномена мира; принцип трансцедентальности «реальных» сущностей [Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., Прогресс, 1992. – С. 54].
А.Ф.Лосев (1893—1988) выдвигает представление о значении символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя тем самым момент тождества означаемого и означаемого как значение символа. Такой подход позволяет выделить две глобальные функции символа: отражение и манифестация. Итак, символ нечто отражает, чтобы потом это выразить. Зазор между этими функциями, а следовательно состояниями символа, предполагает появление нового символа, ответственного за восприятие внешней самому знаку реальности [Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. – М., 1982]. По автору такое состояние называется моделью символа. В отношении формирования такой модели применяется принцип «понятности мира», предполагающий соотнесение всей совокупности выхваченных в момент остановки связей с полем возможных средств выражения этих связей.
Таким образом, понимание выраженного в символьной системе вторичного типа литературного текста осуществляется через восприятие этого текста как контекста означивания, замыкающего ситуацию индивидуально мышления реципиента, т.е. бытие знака как его специфическое значение не носит социального характера, не коммуницируется вообще, что предполагает не социальный, но сугубо индивидуальный характер понимания мысли как означивания или удержания мысли путём целенаправленного создания соответствующей конфигурации сознания.
Необходимо отметить, что символ есть знак, план содержания которого представляет собой целостную структуру сознания, функционирующую по отношению к определённой точке интенсивности. Понятый таким образом, как писал М.К.Мамардашвили, – «символ и в плане выражения, и в плане содержания всегда представляет собой некоторый текст, т.е. обладает некоторым замкнутым в себе значением и отчётливо выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста» [Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., Прогресс, 1992. – С. 54].
Функциональное структуралистское определение символа сформулировано у Ю.М.Лотмана (1922—1993) в работе «Внутри мыслящих миров», где автор исходит из того, что любая «лингво-семиотическая система ощущает свою неполноту, если не даёт своего определения символа». Символ представляет собой некоторый текст, противопоставленный знаку как момент континуальности моменту дискретности; символ представляет собой нечто выделенное из окружающего рядоположенного семиотического контекста, включаясь в текст, символ тем не менее «существует до данного текста и вне зависимости от него» [цит. Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М.: Новое литературное обозрение, 1999. – 384 с.].
По Ю. М. Лотману (1922—1993), символ, как социально обусловленный механизм культурной памяти функционирует как механизм упорядочивания культуры. По своей природе символ реализуется одновременно как знак – это, прежде всего, информационный инвариант и как некоторая незнаковая сущность. Тем самым в структурализме «символ выступает как бы конденсатором всех принципов знаковости, и, одновременно, выводит за пределы знаковости. В равной мере он посредник между синхронией текста и памятью культуры… Структура символов той или иной культуры образует систему, изоморфную и изофункциональную генетической памяти индивида».
Герменевтическая метатеория символа – это описанная М.К.Мамардашвили и А. Пятигорским символология, «где символ как совершенно определённый, вещественный факт, который мы можем натурно изобразить, в отличие от некоторых интерпретируемых психических объектов не нуждается в денатурализации, ибо он ведёт нас, как правило, не к атомарным фактам и событиям сознания, а к содержательным образованиям сознания» [Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., Прогресс, 1992. – С. 54]. По А. Ю. Нестерову, символ реализуется: 1) Как множественность интерпретаций; 2) Как мысль об ином; 3) Как необратимый и предзаданный механизм означивания; 4) Как вещь, создающая определённые состояния сознания реципиента.
§8. О символизации зла. Дьявол (в пер. на кырг. – ажыдар) – самый известный символ абсолютного зла. Но существует ли дьявол (ажыдар) – и в каком смысле? Все дело именно в том, какой смысл мы придаем утверждению о существовании Дьявола. Нас приучили считать, что нечто либо существует «реально», либо не существует вовсе. Такой подход настолько преобладает, что он-то и кажется «здравым смыслом». Наука – является один из таких подходов, но наиболее реальным [Олейников Ю. В. Мировоззрение и экологическая проблема // Философия и экологическая проблема. – М., 1990]. Но наука, как и все другие пути к истине, является построением человеческого разума, меняется во времени и основывается на доказуемых фактах и положениях, в отличие от других предположений, принимаемых на веру.
Именно наука построила чрезвычайно мощную и последовательную систему взглядов. Но наука имеет свои пределы и вне этих пределов существуют другие системы истин, основанные на иных мыслительных моделях (мифологии, богословие, психология и пр.). То, что «реально» в одной системе, может не быть «реальным» в другой [Пуанкаре, А. Наука и гипотеза. О науке. – М., 1990. – С. 116—117]. До истины добраться трудно, так как она скорее динамична, чем статична. Истина таится в сложном динамическом взаимодействии познающего субъекта и познаваемой реальности. Как всегда, окончательная истина где-то рядом, мы должны познать ее, стараясь мыслить ясно и строго и не смешивая разные категории.
Итак, дьявол (ажыдар) – это персонификация зла. Но что это означает? Кто (или что) есть дьявол (ажыдар) на самом деле? Существуют множество работ: «Дьявол, демонология и колдовство» Г.А.Келли; «Дьявол» Р. Вудса; «Вера в дьявола» Г. Гаага. Работа «Дьявол» Дж. Б. Рассела носит интеграционный характер. Автор обобщил огромный материал по данной проблеме с изложением мыслей и чувств, сознательного и бессознательного, сочетания различных порядков и модусов мышления. Автором использован метод, названный «историей концептов», обеспечивающий последовательное понимание Дьявола на базе потенциала мифологии, теологии, литературы, искусства, философии [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
Как и почему зло персонифицировано? Зло персонифицировано, поскольку мы воспринимаем его как навязанное нам извне умышленное злодеяние. Считают ли Дьявола сверхъестественным существом, воспринимают ли его как возникающую в нашем подсознании неконтролируемую силу или как общее свойство человеческой природы – все это не так важно, как сама сущность данного представления, которая состоит в том, что мы напуганы чуждыми и враждебными силами, – пишет Дж. Б. Рассел [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
«Зло ужасающе реально для каждого человека, – писал К. Юнг, – если вы считаете реальностью сам принцип зла, вы точно так же можете называть его Дьяволом. Дьявол – это гипостазирование, апофеоз и объективация враждебной силы, или враждебных сил, воспринимаемых нами как внешние по отношению к нашему сознанию. Эти силы, над которыми наше сознание, по-видимому, не имеет контроля, внушают религиозный трепет, испуг, страх и ужас» [Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного бессознательного (Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991)].
Во многих учениях явствует глобальная мысль: дьявол является таким же проявлением религиозного чувства, как и боги. В самом деле, переживания, связанные с Дьяволом, возбуждают по меньшей мере столь же сильные эмоции, как и переживания, связанные с Богом [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001]. «Зло является наиболее значимым опытом сакрального. Дьявол олицетворяет собой умышленную деструктивность. Дьявола источник и начало зла, и в нем же сама сущность зла», – таковы наиболее общепризнанные понятия. А потому, зная о том, как люди определяли зло и объясняли его происхождение, можно понять, как они представляли себе Дьявола [Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного бессознательного (Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991)].
Как рекомендует Дж. Б. Рассел – дьявола нужно изучать в рамках концептов. По его мнению, история концептов подобна традиционной истории идей, но отличается от нее по двум пунктам: 1) Опирается на социальную историю; 2) Стремится к сочетанию «высшего» и «низшего» уровней мышления, теологии и философии, мифа и искусства, результатов сознательной и бессознательной деятельности. Итак, концепт отличается от идеи тем, что он, с одной стороны, имеет более широкое социальное и культурное основание, с другой – содержит в себе не только рациональный, но и более глубокие психологические уровни [Рассел Б. Мефистофель. – М.: Наука, 2008].
По Дж. Б. Расселу традиция концепта имеет следующие характеристики: 1) Сохраняет верность образу, то есть представления о Дьяволе всегда соответствует исходному восприятию зла как индивидуального страдания; 2) Развивается во времени, то есть становится все более сложной; 3) Расширяет свои границы, а затем ее границы сжимаются, в них начинает выделяться некий центр [Рассел Б. Сатана. – М.: Наука, 2007].
В настоящее время постановка такого вопроса, как существует или не существует Дьявол, на первых парах кажется чисто риторическим, – считают многие исследователи этой проблемы. Другие считают, что не следует торопиться с однозначным ответом [Роулендс М. Философ на краю Вселенной // Перевод с англ. Н. Лебедевой, А. Ефаловой. – М.:ООО «София», 2005. – 272 с.]. Они полагают, что надо исходить из того, что ничто не может быть познано «абсолютно», «само по себе».
Непосредственно и бесспорно мы знаем только одно, а именно: «нечто мыслит». Все остальное, включая и наше собственное существование как личности, постижимо только в акте мышления. У нас не может быть уверенности, что наше представление полностью соответствует реальности мира. Можно предполагать, что существует определенная степень соответствия, – и все же реальность мира настолько сложна и многоаспектна, что наше представление о нем может в лучшем случае охватывать только малую часть свойств реального мира [Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. – М., 1992].
Дж. Б. Рассел рассуждает в следующем ключе: «разумеется, мы живем и действуем в мире так, как если бы наше представление о нем соответствовало действительности. Это разумно – ведь человечество просто не смогло бы ни выжить, ни эволюционировать, если бы соответствие между реальностью и нашими о ней представлениями полностью отсутствовало. А из разных представлений одно может быть более верным, чем другое, релятивизм здесь не срабатывает [Рассел Б. Дьявол. – М.: Наука, 2008]. Соглашаясь с одним и отвергая другое, мы остаемся в рамках естественно-научных представлений. Но с другой стороны, истина не принадлежит монопольно какой-то единственной системе взглядов – она скорее есть предел, к которому сходятся различные системы, и мы можем лишь приблизиться к ней в динамическом процессе поиска, в неустанной и интенсивной умственной работе.
Таким образом, невозможно однозначно ответить на вопрос – существует ли Дьявол, – считает этот ученый-теолог. – «Тот факт, что большинство людей в наше время отрицает эту мысль как устаревшую и даже опровергнутую», есть результат незаконного смешения понятии, когда науку призывают вынести суждение о предметах, которые к ней не относятся».
О том, что вопрос о существовании Дьявола невозможно осмысленно рассматривать с естественно-научной точки зрения, потому что наука по своему назначению ограничивается исследованием физических явлений и не может ничего сказать о явлениях духовного порядка, – пишут многие исследователи. Одним из аргументов является то, что Дьявол – это символика зла, а проблема зла относится к области моральных ценностей, изучение которых в компетенцию естественных наук не входит. Наконец, нравственное зло, а это то же самое, что и Дьявол, есть скорее результат свободного выбора, нежели проявление причинно-следственной связи, проявления свободной воли по определению не имеют причин – и, значит, наука ничего не может о них сказать [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001].
Итак, многие ученые современности, вероятно, считают, что вопрос, не подлежащий научному исследованию, невозможно исследовать вообще [Роганов С. В. «Евангелие человекобога. Посмертно. Собственноручно». – АСТ, 2005. – С. 298]. Уверенные в том, что единственная реальность есть реальность материальная и, что нет ничего реального, чего не могла бы исследовать наука, они отвергают идею существования Дьявола как бессмысленную.
Бесспорно, Дьявол не существует в естественно-научном смысле, но он может существовать в смысле теологическом, психологическом, историческом; и можно приблизиться к истине, изучая эти «смыслы». Тем не менее, изучение истории часто знакомит нас с иным, непривычным ходом мысли, иными мыслительными моделями, овладеть которыми гораздо поучительнее, нежели выискивать в прошлом только то, что согласуется с нашими умственными привычками.
Однако, исторически Дьявол существует – как чрезвычайно живучая и мощная идея, помогающая постичь природу зла. Историк не должен считать, что мировоззрение, господствующее в наши дни, истинно на все времена. Но современные историки находятся в затруднительном положении. С одной стороны, они склонны к материализму. С другой же стороны, и гораздо в большей степени, они релятивисты, и этот релятивизм странным образом тоже приводит их к материализму, поскольку это самая распространенная на рубеже XX – XXI вв. точка зрения, лежащая в основании материалистических методологий [Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. – М., 1982].
Материалистическая история получила много ценных результатов, но ей все же мешает некоторая ограниченность исходных позиций, непонимание того, что нет никакой философской необходимости принять приоритет материализма над идеализмом. Другими словами, первичная реальность, по крайней мере, с такой же вероятностью является «идеей», с какой и «материей» [Мелитинский Е. М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 407 с.]. Рассуждая о Дьяволе, историки-материалисты начинают с того, что, во-первых, для науки Дьявол не существует, а, во-вторых, бессмысленно изучать ее как таковую. Но возможно сходятся в другом, что исследовать ее стоит лишь для того, чтобы понять «состояние умов», ее породившее, – состояние, обусловленное материальными, социальными условиями, которые историк-материалист признает единственной реальностью.
Идеалистическая история сознает, что их идеологическое мировоззрение и взгляды их современников обоснованы не больше, чем взгляды, господствовавшие в прошлом, и потому находят нужным изучать воззрения других культур. Они считают, что идеи важны сами по себе, что идеи не только определяются материальными условиями, но и сами их определяют и потому имеют собственную жизнь и самостоятельное значение [Мелетинский Е. М. Миф и двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1998. – С.421].
Идея Дьявола – важное понятие, способствующее пониманию зла, и, следовательно, ведет к истине. Стремясь к истине, мы обретаем знание – не вещей в себе, но феноменов, вещей в человеческом восприятии. Феномены столько же коллективны, сколько индивидуальны, а потому они постижимы, поддаются описанию и имеют практическую ценность [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001]. Все-таки Дьявола лучше всего изучать исторически. История, в отличие от теологии, не постулирует догматов, но, в отличие от естественных наук, изучает феномен именно как феномен. При этом историческое изучение Дьявола – самое полное из всех возможных, поскольку рассматривает и теологию, и мифологию, и литературу. Изучение Дьявола есть изучение истории Дьявола. Разумеется, «история Дьявола» не есть история Дьявола как такового – такой быть не может. Речь идет об истории феномена, истории понятия «Дьявол» [Философия: Энциклопедический словарь. – / Под редакцией А. А. Ивина. – М.: Гардарики 2004. – 1072 с.].
Существует четыре в корне различных понятия Дьявола: 1) Самостоятельная, независимая от Бога сущность; 2) Один из аспектов Бога; 3) Сотворенное Богом существо, падший ангел; 4) символ человеческого зла. Сколь ни различны эти представления, все они участвовали в создании традиционного образа Зла, который в течение тысячелетий трансформировался, утрачивая одни черты и сохраняя другие. Ближе всего мы подойдем к истине о Дьяволе, если рассмотрим традицию в целом.
Зло в образе Дьявола насчитывает более 15 веков развития, и его содержание при всей своей противоречивости в целом было достаточно глубоким. Это представление продолжало развиваться, оставаясь в целом единым для католиков и протестантов, мусульман и буддизма, иудаизма и индуизма. В настоящее время появились значительные расхождения в связи с возникновением новых идей и ценностей [Чернышов А. Современная советская мифология. – Тверь. 1992. – С.14].
При изучении феномена Дьявола возвращение к индивидуальному необходимо по следующей причине: никто из людей не может в своей жизни избежать причиняемого ему зла, точно так же никто из них не способен воздержаться от совершения зла. Одна из величайших опасностей для человечества в том, что наше собственное зло мы склонны проецировать на других, так, что линия, разделяющая добро и зло, пересекает каждого человека [Шабанова Ю. А. Творчество Е. П. Блаватской: основания синтеза науки, религии, философии // К истокам космического мышления. Приднепровье в общемировой сокровищнице культурно-исторического наследия планеты: Материалы круглого стола. – Днепропетровск, 2009. – С. 23—32].
В чем заключается причина зла? Один из популярных сегодня ответов: в том, что зло имеет генетические корни, что человеческая жестокость возникает из нашей животной природы. Эта бессознательная, «генотипическая» агрессивность универсальна и достаточно могущественна, чтобы в сочетании со стремительным технологическим развитием уничтожить нас полностью. Большинство современных исследователей склонны придавать генетическому аргументу большее значение, чем социальному.