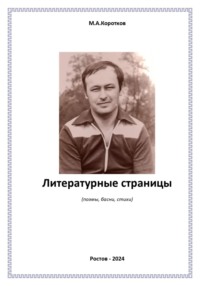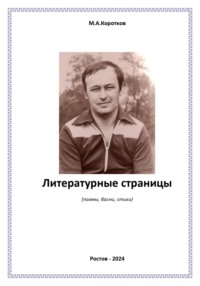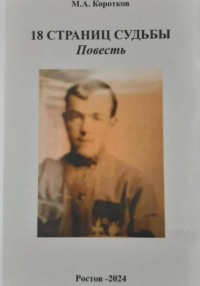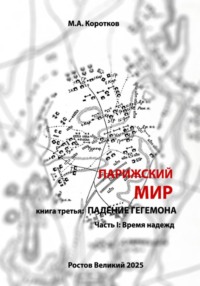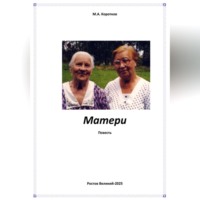Полная версия
Парижский мир. Книга вторая: ошибка гегемона
Однако своими преимуществами русская артиллерия редко когда могла воспользоваться, из-за преобладания в войсках противника нарезного оружия, например: «в сражении под Алмой неприятельские стрелки не дали даже приблизиться нашей батарее 17-й бригады на дистанцию хорошего прицельного выстрела, выведя в самое короткое время 50% людей и лошадей убитыми и ранеными» 33.
Многие историки рассуждают о причинах отставания русской армии в вооружении, при этом называются различные причины. Нам же очевидно, что нарезное оружие не было на тот период каким-то ноу-хау для русских, скорее причины недооценки его следует искать в тактике русской армии.
Генерал А.М. Зайончковский считает, что «причиной нашей отсталости в вооружении следует скорее признать традиционное направление нашей тактики, проповедовавшей энергичное наступление и атаку холодным оружием, при содействии подготовки атаки лишь огнем артиллерии. На увлечение стрельбой смотрели, как на вещь, противодействующую энергии и порыву атаки и деморализующую войска. Таково было мнение большинства людей, и не только людей общего уровня, но даже и выдающихся боевых военных деятелей» 34.
Мне же остается сказать: «Браво, Александр Васильевич!». Победы суворовского оружия прославили русское воинство, но ничему на научили его потомков, тактика которых со времен Александра Васильевича так и осталась в прошлом веке. Вот уж действительно: победы ничему не учат, извлекать уроки заставляет только поражение!
Для того, чтобы эффективно применять существующее оружие, существует тактика его эффективного применения, которая по возрастании масштабов и размаха выливается в тактику действий войск на поле боя. Я уже писал о том, что кремниевое ружье, при своей низкой точности и невысокой дальности стрельбы, предполагает для достижения хоть какого-то эффекта иметь солнечную погоду и плотный строй пехоты, и, конечно, использовать дерзкую штыковую атаку. Нарезное оружие – напротив. Далее мы рассмотрим основные тактические приемы русских императорских войск применительно к оружию, которое имелось в их руках.
1.4 Тактика громких побед
«Береги пулю в дуле! Трое наскочат – первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун» А.В. Суворов «Наука побеждать»
Столетие XVIII-е и первая половина XIX-го были золотым веком русского оружия «времен очаковских и покоренья Крыма» 35. Славные победы Румянцева, Суворова, Кутузова остались не только в памяти народной, но и закреплены были в воинских уставах (святая святых военного искусства). К «Науке побеждать» А.В. Суворова относились, как к иконе, боясь изменить в действиях войск хоть что-то. Тактика прошлых (победных) войн, составлявшая основу российских боевых уставов, таким образом, не претерпела никаких изменений; более того, российские генералы адаптировали под себя некоторые, как они полагали, мудрые цитаты Наполеона, типа: «Большие батальоны всегда правы»; многие из них образцом для подражания считали выдающиеся маневры французского маршала Лана со своим 30-тысячным корпусом на поле боя36. Справедливости ради следует отметить, что и суворовские (уставные) тактики исповедовали не только российские полководцы, а многие известные военачальники Европы, например отец прусской кавалерийской школы барон Фридрих Вильгельм фон Зейдлиц-Курцбах37; однако среди генералитета русской армии преобладало догматическое отношение к ним.
«Уставные требования, сопровождавшие … боевые порядки, понимаемые к тому же исполнителями донельзя узко, уничтожали все хорошее, вложенное в суть их, и обратили их в тот рецепт ведения боя, слепое следование которому так дорого стоило нашей армии. Устав точно указывал каким полкам и бригадам стоять впереди и каким сзади, батальоны размещались по старшинству номеров, а сами боевые порядки на учениях строились по жалонерам 38, и только в бою этого не требовалось; для применения же к местности батальоны разрешалось передвигать, но не более чем на 50 шагов. В боевых линиях разрешалось держать определенное число батальонов, и строго проводилась идея равномерности сил по фронту» 39.
До чего такой характер уставных требований и влияние известной системы обучения вошли в плоть и кровь даже лучших представителей из начальствующих лиц того времени можно увидеть из донесения командира 5-го пехотного корпуса генерала Лидерса в Военное министерство (1852 год): «…при корпусном штабе нет никаких правил для употребления состоящего при корпусе стрелкового батальона» 40. Оставлю этот текст без комментариев!
Теперь рассмотрим, какие построения в бою определял российский боевой устав41.
1.4.1 Пехота
Рота в строевом отношении разделалась на два взвода, а каждый взвод – на два полувзвода.
Боевыми строями роты и батальона были:
Развернутый строй;
Колонна;
Каре;
Рассыпной строй.
Развернутый строй (в 3 шеренги) применялся для «частой и сильной стрельбы».
Стрельба производилась или залпами, или рядами (батальонный огонь); в последнем случае ряды стреляли один за другим с таким расчетом, чтобы огонь, по возможности, был непрерывным.
Следует сказать, что стрельба из развернутого строя производилась очень медленно (из-за сложности заряжания и перестроения в ходе стрельбы), особенно медленной была стрельба залпами, и только хорошо обученные части могли производить ее без замешательства.
Боевыми колоннами батальона служили:
Густые колонны (дивизионные, вводные, полувзводные); дистанция между шеренгами 4 шага;
Колонны к атаке.
Для маневров обычно применялась «густая полувзводная колонна», как более удобная (25 шагов по фронту, 32 шага в глубину).
Для атаки холодным оружием (составляла основу боя) российские полководцы применяли «колонну к атаке» (взводная колонна, из середины разомкнутая на полувзводные дистанции); батальон в такой колонне занимал 50 шагов по фронту и 40 шагов в глубину.
Недостатком таких колонн А.М. Зайончковский видит в их излишней глубине, которая происходила от 3-х шереножного развернутого строя; например, «колонна к атаке» состояла из 12-ти шеренг, которые были бесполезны для штыкового удара и несли неоправданные потери от огня. Отец больших батальонов и глубоких колонн Наполеон Бонапарт, узнав такое, перевернулся бы в гробу. Но увы, времена поменялись! «Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне лучших стрелков» (Вольтер).42
Меньше страдали от огня батальоны, построенные в ротные колонны; ротные колонны состояли из рот батальона, построенных каждая во «взводную густую колонну» и разведенных друг от друга по фронту и в глубину на расстояние 100-150 шагов. Ротные колонны имели возможность действовать холодным оружием и помогать друг другу.
Каре применялось исключительно для отражения атак конницы и представляло из себя плотный строй квадратной (прямоугольной) формы.
Описывая действия войск в сомкнутых строях (развернутый, боевые колонны) следует иметь ввиду, что все перестроения в оных точно регламентировались существующими в то время уставами, вплоть до места и движения каждого человека (большая часть уставов была посвящена этим эволюциям).
Рассыпной строй, предназначавшийся исключительно для стрельбы, состоял из стрелковой цепи и ее резервов и был двух видов:
Стрелковая цепь застрельщиков (застрельщики располагались парами для взаимной защиты; расстояние между парами 3-15 шагов);
Стрелковая цепь застрельщиков с приданными стрелками из состава других частей. Это происходило так: первые три роты батальона, находящиеся во взводных колоннах, высылали из своих рядов «в стрелки» требуемое количество солдат; а гренадерская (карабинерская) рота (собственно застрельщики) батальона в этом случае выходила в резерв и располагалась в 100-150 шагах за позициями первых трех рот батальона.
В стрелковой цепи не требовалось равнения и интервалов, единственное, что было необходимо – чтобы в каждой паре одно ружье было всегда заряженным. Движение цепи осуществлялось парами по очереди, а в парах – по очереди между стрелками.
Следует сказать, что реализация данного строя была хорошо продумана и удовлетворяла всем современным требованиям, с той лишь оговоркой, что она играла в действиях русских войск второстепенную (а не главную) роль. Обычно рассыпной строй применялся для противодействия стрелкам противника перед фронтом своих сомкнутых частей.
Еще важное замечание (о штуцерных). Они, как лучшие стрелки, были распределены по ротам, и в бою стреляли только те штуцерные, от чьих рот были вызваны застрельщики; таким образом большая часть штуцерных не принимала участие в стрельбе, лишая армию того небольшого числа нарезного оружия, которое в ней имелось.
Боевые действия пехоты состояли из наступления и обороны.
При наступлении, боевой порядок строился на таком расстоянии от неприятеля, «чтобы последний не мог напасть на выстраивающиеся войска раньше, чем они займут свои места».43
Первая линия в большинстве случаев (особенно при ожидании рукопашного боя) строилась в «колоннах к атаке» с высланными вперед застрельщиками.
Выстроенный боевой порядок продвигался вперед обычно всей линией (реже уступом или в шахматном порядке под прикрытием частей, остающихся на месте). Особое внимание обращалось на равнение и соблюдение дистанций.
Подойдя к неприятелю на расстояние верного выстрела (250-300 шагов) застрельщики открывали огонь, стараясь оттеснить стрелков противника и достать огнем его сомкнутые части (если таковые имелись).
Когда противник до некоторой степени будет ослаблен огнем, войска обычно переходили в штыковую атаку. Удар производился или всей линией одновременно, или частями, под прикрытием огня застрельщиков, которые собирались в интервалы между батальонами.
Батальоны первой линии, в случае их утомления, сменялись батальонами второй линии, а те- резервом. Для производства такой замены уставом были установлены точнейшие правила, вплоть до того, кому с какой стороны кого обходить. А.М. Зайончковский называет такие правила «преступными» 44, якобы лишающие войска необходимой инициативы, что, как мне кажется, является более, чем спорным.
Оборонительный бой пехота вела на тех же общих основаниях, как и наступательный.
При развернутом фронте, первая линия встречала неприятеля огнем, и, если это не останавливало противника, то вторая линия проходила сквозь первую и встречала неприятеля атакой; первая же свертывалась в «колонны к атаке». Такой способ считался рискованным, так как, если атаку второй линии постигнет неудача, а первая линия не успеет перестроиться в «колонны к атаке», то противник имел шанс на плечах отступавшей 2-й линии ворваться на позицию.
Если первая линия была построена в колоннах, то она не ожидала противника на месте, а, как только противник оттеснил застрельщиков, сама устремлялась в атаку.
Атаки кавалерии отбивались из каре, которые обычно располагались на месте, в шахматном порядке. Кавалерия встречалась батальонным огнем с 40-50 (реже 100) шагов, реже-залпами, после чего оружие брали «на руку».
При крайней необходимости каре разрешалось наступать против кавалерии.
1.4.2 Кавалерия
Кавалерия состояла из полков различных видов:
Кирасиры (тяжелая кавалерия): для нанесения сильных ударов в сомкнутом строю;
Драгуны (средняя кавалерия): для действий в сомкнутом строю и в пешем порядке;
Гусары и уланы (легкая кавалерия): для производства быстрых действий в сомкнутом и одиночном строю.
Известны следующие строи кавалерии:
Развернутый (для атаки);
Колонна (для похода и маневра);
Рассыпной (когда требовалось достигнуть быстроты нападения);
Для фланкирования 45(разведка, обстрел противника с флангов продольным огнем).
Фланкирующий строй представляется наиболее сложным. Он состоял из высланных вперед полуэскадронов, которые рассыпались в цепь, оставляя за собой на расстоянии до 100 шагов некоторые силы поддержки; остальные полуэскадроны двигались в сомкнутом строю на расстоянии до 100 шагов за поддержкой. Зачастую кроме разведки фланкировщики действовали против конницы противника, не допуская ее до сомкнутого строя своих войск.
Спешивание кавалеристов проводилось лишь драгунами, из 10 эскадронов которых спешивалось до 8, составляя, таким образом, 8-ми взводный батальон; легкая конница спешивалась крайне редко.
Вторая линия кавалерии в боевых порядках располагалась в затылок первой, и действовала так же, как и пехота, сменяя первую линию в случае ее неудачи.
Современники отмечают, что кавалерийский устав времен Крымской войны был так же сложен, как и пехотный, и изобиловал многими подробностями, совершенно неприменимыми в бою.
1.4.3 Артиллерия
Артиллерия состояла из пеших батарей 12-орудийного и конных 8-орудийного состава.
Пешие батареи были двух видов:
-тяжелые: 6-ть 12-ти фунтовых пушек + 6-ть ½ пудовых единорогов;
-легкие: 8-мь 6-ти фунтовых пушек + 4-ре ¼ пудовых единорога.
Конные батареи состояли из 8-ми ½ пудовых единорогов (тяжелые), либо из 4-х 6-ти фунтовых пушек + 4-х ¼ пудовых единорогов (легкие).
Такой разнообразный состав батарей объяснялся тем, что пушки хорошо стреляли ядрами, но плохо картечью, единороги же, наоборот, хорошо стреляли картечью и гранатами, но совершенно не годились для стрельбы ядрами.
Согласно существующих уставов огонь полагалось открывать с расстояния верного выстрела (400-500 саженей46) и лишь по плотным массам пехоты разрешалось стрелять с 600 саженей.
При расположении на позициях в резерв обычно отводились легкие, как более подвижные, батареи.
Батареи друг от друга располагались на расстоянии картечного выстрела. Не разрешалось их дробить, а также соединять по несколько батарей вместе. Этому было объяснение: малая дальность стрельбы, не позволяющая маневрировать огнем. Преимущества массирования артиллерийского огня понималось всеми, но приоритетом все же считалось не ослаблять другие участки боя.
1.4.4 Взаимодействие родов войск
Для взаимодействия различных родов войск на поле боя устанавливались нормы боевых порядков, определяющие порядок и взаимное расположение родов войск. Они охватывали наиболее характерные ситуации, которые могли возникнуть в бою, но несмотря на всю их полезность, понимались многими военачальниками, как догма, которая сковывала лучшие намерения многих генералов47. В нормах принято было видеть не способ достижения победы, а избавление начальника от необходимости объяснять подробное расположение каждой части в бою, достаточно было только скомандовать: «По такой-то части, в такой-то боевой порядок стройся».
Участник боевых действий Н. Н. Муравьев48 пишет: «…они уверены, что эти боевые порядки суть настоящие изображения военных действий, и что тот только воин, кто знает равнение, дистанции и интервалы. Государь убежден по ложным и грубо льстивым донесениям фельдмаршала, что войска вступали в дело в предписанном уставом строе боевых порядков» 49.
Изучая воспоминания современников, становится понятным, почему широкий от природы военный взгляд государя оказался парализованным, и вылился на практике в то ненормальное положение, в котором жила и существовала российская армия.
Характер наступательного и оборонительного боя в общих чертах сводился к следующему:
При наступлении боевой порядок подходил к неприятелю на расстояние дальнего пушечного выстрела (400-500 саженей), откуда начиналось артиллерийское состязание сторон. Это время служило для производства рекогносцировки и окончательного видоизменения боевого порядка (по итогам рекогносцировки). Через некоторое время артподготовки боевой порядок приближался к противнику на расстояние 300-350 саженей и останавливался для подготовки огневого боя. Артиллерия с этой позиции переносила огонь на батареи противника, а застрельщики завязывали бой с рассыпными частями противника и, оттеснив их, завязывали бой с сомкнутыми строями неприятельской пехоты и расчетами артиллерии.
За застрельщиками двигался основной строй пехоты, при этом требовался строгий порядок (равнение, нога, интервалы и дистанции). В этом виделся залог успеха: считалось, что если батальоны идут в атаку в ногу, то никто из солдат не оставит рядов. В то же время, приближение стройной боевой массы к противнику должно было оказать на него деморализующее воздействие. Само движение проводилось ускоренным шагом без стрельбы, и за 20-30 шагов до противника солдаты бегом бросались в штыки.
Вторая линия безостановочно следовала за первой с целью поддержать ее (при успехе) или заменить (при неудаче).
В случае успешной атаки батареи выдвигались вперед для ведения огня по отступающему противнику, а при неудаче, напротив, занимали позиции позади частей, прикрывая их отступление огнем.
Общий обзор тактического устройства российской армии того времени показывает отличительные черты ее тактики, это:
–стремление к действиям большими сомкнутыми массами;
–использование рассыпного строя, как вспомогательного;
–отсутствие гибкости форм боевых порядков;
–малая подготовка атаки огнем артиллерии;
–пренебрежение к потерям.
Тактическое устройство противников России (Англии, Франции) было несравнимо выше50:
–лучшее вооружение;
–лучшая обученность стрельбе;
–широкое использование рассыпного строя.
В стрелковом бою французы и англичане имели преимущество благодаря быстроте своих движений и атак, умели искусно пользоваться складками местности. Российским же войскам (в плотных боевых порядках) в большинстве случаев приходилось действовать на пересеченной местности, где принятые уставом нормы, только мешали. Выше всяких похвал была, однако, русская артиллерия.
Русской кавалерии за всю Крымскую войну выпал один единственный случай выстроиться в боевой порядок (в Балаклавском сражении), но и здесь сделать этого она не смогла за недостатком времени и места51.
Во всех сражениях 1853-1856 г.г. в поле русская армия, действуя плотными строями, несла огромные неоправданные потери, французы же после Альминского сражения52
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.