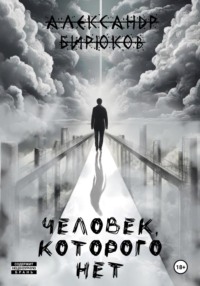Полная версия
Бессмертие длиною в жизнь. Книга 3
Ольгу чуть не вырвало. Сдерживая спазмы из последних сил, он прижалась лицом к плечу Германа и заплакала. Она плакала так, как никогда не плакала. Время потеряло свою ценность, свои свойства, после того, что она увидела, теперь рыдая от обиды и стыда, то и дело нервно вздрагивая. Перед глазами стояло то мгновение, в которое на голову мальчику ступила нога, размозжив ему череп. Ольга взвыла, надеясь выплеснуть в этом крике все то, что она видела, все то, что ей запомнилось и все то, что ей хотелось забыть… «Его глаза, его глаза» – бездумно повторяла она. На секунду она поняла, что увидела в этом мальчике не просто мальчика, а Джелани – того человека, которого когда-то любила.
«Она постоянно плачет. Чего ей опять взбрело в голову?» – подумал Герман.
Ей вдруг стало понятно, что жизнь ничего не стоит в том виде, в котором человечество ее знает, с ее скучными ночами, разбивающими сознание на несколько тысяч частей, с ее страхами и в конечном итоге жалкой погибелью от каких-то неведомых сил – все это ничего не стоит, и, возможно, даже не стоит того, чтобы тратить на это свое время, силы. «Не легче ли от всего этого избавиться, и тогда не придется раздумывать: а стоит ли все это чего-нибудь, надо ли все это ощущать, чувствовать?» – невольно возникали вопросы у Ольги. Ей стало понятно, что смерть, как и жизнь, – ничто; она ничего не значит и ничего не стоит. «Так зачем же все это?»
В этот момент раздался взрыв, окутывая площадь ударной волной. Это ощущение, когда мурашки мгновенно покрывают все тело, моментально объединило всех, от самой макушки и ушей до пальцев ног, выбивая из головы все остальные мысли, кроме этого взрыва и приятного послевкусия, которого все так ждали.
Герман почувствовал, как на него перестали напирать десятки рук. Он выпрямился во весь рост и увидел все, что творилось вокруг: абсолютное безмолвие со стороны людей, огромные клубы пыли и взвеси по сторонам от высотных зданий, а сбоку слышались едва различимые всхлипы Ольги. В этот момент все прекратилось – гвалт и гомон стих.
Когда позже Герман пытался вспомнить, что же было после этой секунды, сколько бы сил не приходилось задействовать, ничего не получалось – просто пробел в памяти, который он никак не мог восполнить. Он часто спрашивал о тех вещах у Ольги, на что та отвечала либо односложными словами, из которых вынести хоть какой-нибудь смысл – значило собрать по крупицам огромную вереницу слов, никак не связанных между собой, что было весьма затруднительно при той лености, которую наблюдал за собой Герман в последнее время, либо Ольга снова уходила в свой мир, в котором не было абсолютно ничего, кроме «безжалостного бреда воспаленного женского мозга», как порой выражался Герман. Порой все же можно было услышать вразумительные ответы, но они тут же распадались на сантиментальные и сумбурные маленькие рассказы, среди которых было много ненужных и совсем не подходящих под данную тему подробностей.
– Да, да, – оживленно начинала Ольга, но потом этот энтузиазм куда-то улетучивался, – помню. А ты разве ничего не помнишь? Как падали дома и люди ликовали, будто свершилось то, чего они так ждали. Ах, да, они этого и ждали, – точно, я помню, помню. И ты стоял рядом, наблюдая за ними – большими домами, которые, разваливаясь, стремились вниз, к земле, надеясь там обрести покой. И небеса, такие голубые, как снежная пелена гор, которые мы когда-то видели, и крики людей, как совокупность тысяч рек, бурливших ярыми потоками с вершин… И еще, еще я помню глаза того мальчика, который барахтался под ногами. – И она начинала плакать. Любой ее плач всегда продолжался довольно долго вне зависимости от его причины, но этот, хоть и был схож с другими, все же немного отличался. Герман так и не смог понять, что за мальчик, о котором Ольга ему толковала, и что за причина, по которой она так горько плачет; скрывая себя настоящего под непроницаемой маской непринужденности, он ждал, пока женщина закончит плакать. – Ты не помнишь? Нет? Он, он лежал там, а в небе летали дирижабли, и их голубые полотна сливались с небесами, которые были похожи на заснеженные шапки гор. Вспомни. – Наступила пауза. – Зачем ты ко мне пришел? – будто бы все забыв, спрашивала она.
– Рассказывай! – настойчиво просил Герман.
– Что рассказывать? Я не понимаю, что ты от меня хочешь, – искренне удивляясь, спрашивала она, смотря ему в лицо широко открытыми глазами.
– Черт подери, – злился Герман, а потом уходил. Он уходил всегда одинаково, с одними и теми же мыслями: «Глупая, глупая женщина!», с одним и тем же непониманием, в котором никак не мог понять, что происходит и с ним, и с ней, и со всеми вокруг: людьми живыми и, что удивительно, мертвыми, которые все еще влияли на настоящее, – его мозг никак не мог найти точку опоры, и поэтому в голове часто возникали сумбурные непонятные мысли, описать и объяснить которые было очень и очень трудно, а порой просто невозможно.
Это был один из тех этапов годовалого пути, который ярко вырисовывался на фоне других, в основном скучных и незапоминающихся. Но все же был и еще один момент, который значимо отразился на жизни двух блуждающих по миру людей, которые совершенно не знали, куда и зачем идут, к чему стремятся, что ищут, но с детским рвением что-то найти и с уверенностью, что это что-то обязательно будет, что оно найдется, шли и шли вперед, пробивая упрямыми головами невидимые преграды.
Не надо спрашивать человека напрямую, чтобы понять, что то, что он ответит – сущая неправда, но только мысли, бесконечно вращающиеся в голове, будут именно той концепцией, которая в конечном итоге и окажется правдой – той непрерывно вещающей правдой, которую мы все хотим слышать, но не можем признать. Единожды соврав или же ответив не то, что есть на самом деле в голове, мы можем пойти не по той дороге, которую сами же и избрали. Пускай все это слишком сложно, и чтобы свести к минимуму пустую болтовню, можно описать все эти метафоры не словами, когда-то отвеченными людьми на n-ые вопросы, но мыслями, которые думал человек, пытаясь что-то проговорить в то момент, когда придумывал ответ на тот же самый вопрос.
Пускай вопрос был на истоке того года, за который и случилось столько всего, и даже не важно, что это был за вопрос, но мысли, которые проносились в голове Германа описывали его натуру лучше, чем что-либо другое.
Сидя в небольшой ресторанчике при гостинице на окраине мира, где вокруг не было ничего, кроме разве что небольшой заброшенной альпийской деревушки, по улицам которой бродили уставшие туристы, слушая завывания ветра и скрип старых вывесок, потерявших свою красоту десятки и десятки лет назад. Герман сидел на деревянном стуле с бархатным сиденьем, наслаждаясь видом заходящего за горизонт солнца. Уходя, порой просто убегая, люди не заботились о том, как лучше всего оставить свои жилища, в каком виде их забыть, и только пустые стены напоминали до сих пор о том времени, когда здесь случилось нечто страшное. Пыльные окна сурово вглядывались в лица, забирая себе черты людей, но не отражая все то, что забрали в себя. Под ногами хрустела галька, напоминая о зыбкости времени, останавливая и как бы засасывая все вокруг в себя, в свой старый мир цветущих трав и детского смеха, некогда звенящего здесь.
– Позволите сесть? – спросил мужчина, подойдя к столу Германа. Герман не стал отвлекаться, услышав какой-то посторонний шум, отвлекающий его от созерцания видов и спокойствия.
Мужчина сел.
– Меня зовут Чонглин. Я вроде как турист. – Наступила пауза. – Приехал посмотреть эти места. Знаете, наверное, проходя по тому заброшенному городу, который виднеется вдали, – я там был, – сказал он, показывая пальцем в сторону долины, – можно испытать чувства, которые испытывали дети, жившие здесь когда-то… да-да, именно дети; почему-то именно дети, как мне кажется, могли так сильно любить и чувствовать… Взрослые так не умеют. Наверное, в детях есть что-то, чего уже нет у нас.
Герман уже понял, что не видать ему спокойствия с этим незнакомцем, который так беспардонно вмешался в его личное пространство. Герман мельком оглянул своего соседа. Он был в белой рубашке в синюю клеточку, из-под рукавов выглядывали волосатые руки, и волосатые пальцы, которые он сцепил между собой. Лицо на первый взгляд казалось глуповатым, а раскосые глаза только придавали уверенности в том, что этот человек хоть и добрый, но навязчивый и надоедливый.
– Вы, наверное, тоже много путешествуете? Всех, кого я здесь встречал, – все путешественники в некоем роде, если можно так сказать.
– Да, – сухо отозвался Герман, и уже было собрался встать и уйти, как вопрос его визави заставил на секунду остановиться и сесть обратно.
– Я всегда при знакомстве спрашиваю вот что… кстати, как вас? Очень приятно. Так вот, какое самое завораживающее место, которые вы посещали, может быть, которое вам больше всего запомнилось или, быть может, больше всего поразило? Я, видите ли, коллекционирую, если можно так сказать, некоторые места, конечно, не лично те, что видел я, но те, о которых рассказывали мне люди, такие как вы – незнакомцы.
– Такого нет, – тихо пробурчал Герман, но все же остался сидеть. И именно то, что он сказал, кардинально разнилось с тем, о чем он думал. Но Чонглин будто не услышал его ответа. Он продолжал:
– О, у меня много историй, мне говорили о многом, даже слишком о многом, – моя голова битком набита историями, вот только жаль, что эти истории никак не связаны со мной, разве только то, что я слышал, – рассказы тех людей, которых я сам лично встречал. Как же много я слышал. – Герман, потерянным взглядом рассматривал стол, не слушая того, что говорил Чонглин. – О, я могу многое поведать. Однажды, – я хорошо это помню, – один юноша рассказал мне интереснейшую историю о том, как он смог выбраться оттуда, откуда людям вообще не суждено выбраться. Он говорил, что жизнь его так сложилась, как он никогда не предполагал; но, к сожалению, даже это не смогло принести ему той радости, о которой он мечтал. Я не буду называть его имени, хотя я и так не очень-то помню, как его звали, но вместо этого я буду звать его мистером N – так намного лучше, чем, если бы вообще его никак не упомянуть, – Чонглин едва заметно ухмыльнулся, будто бы такие обороты речи и замысловатые высказывания доставляли ему неимоверное удовольствие. – Так вот значит, этот мистер N каким-то чудесным образом выбрался оттуда, откуда, как он сам сказал, никто не может выбраться, будто бы существуют такие места, о которых никто не знает, на которых живут себе поживают люди, такие же свободные, как и мы, но только за исключение того, что они не могут покидать места, где родились, – абсурд, правда? Но его история, хоть и весьма неправдоподобна, все же имеет несколько красивых описательных мест и романтических аллегорий. По правде сказать, я все же не знаю, что из того правда, а что нет, ведь сложно просто так сказать о человеке, что он лжет, а ты попробуй приравнять его к тем, кто хоть немного говорит правду. Понимаю, в наше время это редкость, но все же, хоть я и не берусь утверждать это с той же уверенностью, что и то, что его рассказ так же ирреален, как и правдив, все же мне хочется верить в реальность всех слов мистера N. Он ушел, выбрался из той территории секретов и экзистенциального безумия – мы не можем этого знать наверняка – случайно, в силу обстоятельств, так сказать, но никто не может не получить что-то хорошее, не потеряв ничего при этом. Как он говорил мне, у него осталась там невеста: красивая, молодая девушка, которая любила его; но, как известно, тяга к приключениям намного сильнее, чем привязанность к вещам, в конечном итоге способным потерять свои свойства…
Герман в это время думал о словах Чонглина. Не то, чтобы он рассуждал о том, какие выдумки может поразить больной мозг неизвестного ему человека, но о том, какое воспоминание в памяти способно вывести из некоего равновесия, напомнить о прошлом, повергнув вместе с этим человеческие чувства в состояние агонии и временной амнезии, когда кроме единственно привязавшейся мысли, стоявшей перед глазами картинки, навеянной музыки или ощущения мнимого ветра, не было толком ничего, кроме исступлённого и глупого состояния транса между телом и сознанием.
Конечно, такое место, такая секунда в зараженном идеей мышлении была и у Германа, и то исступленное состояние, на которое никак не обращал внимания Чонглин, было следствием видений, которые ощущал, прощупывал и осознавал Герман в данную секунду, на протяжении нескольких жизней, успев прожить все это за эту секунду в воображении бесчисленным числом вариаций, способных на насколько мгновений перенести всё существо человека в другую, ирреальную, но вместе с тем, единственно правильную реальность, и точно так же за несколько секунд дать возможность пережить ту единственно правильную реальность в бесконечности ее воплощений и возможностей.
Перед взором, как в дымке, Герману виделся город. Город-призрак, по форме своей ничем не отличавшийся от городка на зеленых альпийских лугах, краешек которого не совсем отчетливо виднелся по ту сторону окна старого, но крепкого ресторанчика. Вот только почему-то (а, быть может, по некоторым субъективным причинам) все виделось в черно-белом цвете. Вокруг одноэтажных и двухэтажных полуразрушенных домов и по аллеям, улицам, стояла мутная взвесь, придававшая этому городу-призраку вид давно покинутого людьми места; хотя, с другой стороны, вместо людей здесь обрели свое место растения: маленькие кустарники, сквозь проплешины которых виделись просветы и трава, которая постепенно захватывала этот призрачный город, могучие деревья, которые можно было видеть едва только сойдя с намеченной тропы – главной улицы и аллей, которые просеками разветвляются во все уголки забытого человеком города; по бокам от улиц разрастались высаженные некогда деревья, которые сначала были просто украшением этих улиц – теперь же они стали полноправными хозяевами этих мест, способные и даже имеющие полное право делать то, что им вздумается и тем более как им вздумается, если, конечно, взять во внимание, что такие представители флоры умеют думать и тем более сознавать, что они делают.
Он не помнил ни месяц (хотя по солнцу и распускающимся почкам можно было бы предположить, что началась весна), ни день; он помнил это место, и не просто помнил, но был уверен, что когда-то давно ему было тут хорошо, – вот только когда? Чонглин всё что-то без умолку болтал, наверное, считая, что кому-то это интересно.
«Вот чудак-человек», – пробравшись сквозь толщу воспоминаний, но в тоже время оставаясь еще частью себя в своем воображении, сказал не то, чтобы сам Герман, но его праздное состояние и отвлеченное самолюбие.
На стенах двухэтажных отштукатуренных стен расползлись трещины, одним своим видом способные привести человека в трепет, заставляя испытывать нечто на подобии уважения, которое испытывают люди при встрече с теми, кого боготворят и в тоже время боятся. В некоторых местах корни деревьев, набухая и разрастаясь, выползали из земельных темниц, выглядывая в прогалины не замурованных асфальтом площадок; осматриваясь вокруг, они набирались того света, которого никогда не видели.
Чонглин тем временем рассказывал о том незнакомом ему человеке, которого он, по своим же словам, считал своим другом, что, вероятнее всего, не было так на самом деле. Так или иначе, из уст Чонглина лились невероятные россказни, отражающиеся от стен глухого ресторанчика, не выбираясь за его пределы, так и утопая во всеобщем шуме.
– …бросив свою невесту, представляешь? Может нам этого не понять, но он ее бросил, теперь не то чтобы жалея об этом, но восхваляя самого себя, не обремененного женщиной мужчины, о котором он так любил говорить в 3-ем лице… – с лицом человека, который способен увлечься и восторгаться своим рассказом, говорил Чонглин. Он рассказал так же и о том, что было с господином N после разрыва с невестой, о том, как великолепны бескрайние ночные равнины под светом луны со звуками цикад, как невероятно прекрасны скошенные поля, лежа на которых можно видеть звезды, складывающиеся в затейливый рисунок. Звездное небо подобно искусно вышитому ковру: если смотреть на какую-то определенную часть, акцентируя внимание только на маленьком куске звездного неба, а потом складывать его воедино, то можно увидеть сам серебристо-синий ковер космоса. «Он говорил…» – говорил Чонглин, а потом начинал пересказывать то, что ему удалось услышать от других людей, встреченных на «пути к счастью», которого, как сказал Чонглин, нигде нет возможности найти, но если постараться, то можно увидеть его своими глазами – и только; и будто если тронуть его рукой, то оно рассыплется на мелкие кусочки, окрашиваясь в темно-бурый цвет, чтобы те, кто захочет его найти, проходя по этим местам, натыкались на осколки и резали ноги в кровь, дабы больше никогда не хотелось им ходить и искать то, что им не подвластно. «Какая чушь, – думал Герман».
– Вот так вот встанешь – но лучше, конечно, сесть – и будешь наблюдать за тем, что всю жизнь искал. – Руки Чонглина заметно дрожали, а нос колыхался от прерывистого дыхания. – Что будто бы прозрачное свечение, называемое счастьем, стоит, как вот стоишь ты, и наблюдает за тобой, но все так же, как и раньше стоит, – не двигается. А ты сидишь и смотришь на него, как на свою заветную мечту, разглядывая каждый кусочек его прозрачности, а потом аккуратно встаешь и уходишь в неизвестном самому себе направлении. А оно все так же висит себе в воздухе и висит, и никто не знает, что будет, если ты до него дотронешься, кроме как всем известной байки о том, что оно рассыплется.
Чонглин прервался. Наступила благодать. Фоном слышались разговоры обедающих туристов, смех и кашель, топот приходящих и уходящих мужчин и женщин в теплых, но легких костюмах, тихонько звенящий колокольчик у входной двери.
– Была одна легенда, – с грустью в голосе, отвлекаясь от своих рассказов, коллекционированием которых занимался, начал Чонглин, – о том, как появилось то самое счастье. Начиналась она с того, что все люди были несчастны, но сами они не знали об этом, так как не с чем было сравнивать, и только каждодневная мука, к которой все привыкли, была для них единственной радостью в застоявшемся мире. Но один человек, копая землю в своем саду, случайно нашел Счастье – тот самый комок, который блистал своей прозрачностью. Этот комок преобразился, а после показал человеку, что тот всегда жил плохо, и что все люди всегда жили плохо, но ничего не могли изменить, только и делая что утопая в своем неведении и тьме своих деяний. Человек, нашедший Счастье, которое дало ему возможность видеть всю правду, расстроился и расстроился так, что очень долго плакал, смотря сквозь призму счастья на мир вокруг, расстраиваясь все больше и больше. Счастье решило подарить этому человеку блаженство, чтобы тот не плакал больше и смог бы радоваться жизни до конца своих дней. И человек, получивший блаженство, стал радоваться жизни и утопать в радости, которое дало ему Счастье. Он совсем забыл о тех, кому было плохо, он только и делал, что развлекался, пил вино, ел, спал и радовался тому, что есть у него, но чего нету у других; и тогда Счастье осознало, что сделало большую глупость, что, надеясь на благородство человека, его щедрость и великодушие, оно сильно ошиблось в этих человеческих непознанных благодетелях, а только раззадорило тщеславие, чревоугодие и леность. И тогда уже пришло время плакать Счастью; и пока плакало Счастье, человеку стало мало того, что у него есть. Выбравшись из своего рая, он пошел к другим людям, чтобы рассказать, как он хорошо живет и как плохо живут они, чтобы все ему стали завидовать и просить о помощи. После того, как он им все рассказал, ему никто не поверил. Тогда он принес им вино и фрукты, а после вернулся домой. Испробовав все это и познав лучшую жизнь, люди стали завидовать ему. Они стали просить принести еще еды и вина, но когда тот отказался и стал насмехаться над ними, говоря: «Только я достоин!» – они затаили на него великую злобу. Выследив место, откуда он берет еду и вино, они убили этого человека, а потом разграбили этот рай, сделанный только для одного. Они стали требовать у Счастья, чтобы оно сделало такой рай для всех, но Счастье не могло исполнить их просьбы, так как видело, что благодать делала с людьми. И тогда Счастье забрало все свои райские подарки с собой и ушло, решив больше никогда не возвращаться. Люди, узнав, что живут плохо, стали искать Счастье, погибая в болотах и срываясь со скал, но ища его во всех уголках земли, даже ценой собственной жизни, вместо того чтобы делать свое счастье самим. И, как говорят, люди до сих пор ищут Счастье, в надежде на то, что оно даст им ту благодать, которая способна вознести человека до вершин блаженства. Но это всего лишь легенда, хотя, кто знает?
Герман не следил за ходом мысли Чонглина, за его легендами, небылицами… Но мир Германа по мере смены направления мысли Чонглина изменялся вместе с его собственными мыслями. В черно-белом мире появлялись краски, обогатившие монотонный мир.
Низкорослые двухэтажные домики вдруг рушились, и на их месте вырастали новые, совершенно другие по типу и форме дома, хотя такие же по структуре и величине. Невольно появлялись отсылки к старым воспоминаниям, вытянутым насильно из дальних уголков сознания, картинки накладывались на ту воображаемую реальность, делая ее еще более ирреальной, чем та, которая была до этого. В голове у Германа сформировался новый мир, такой же возможный, как и все, что окружает вокруг, как и то, что люди способны видеть своими собственными глазами, – отчего же он не выдуманный?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.