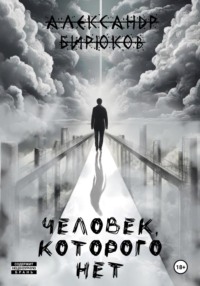Полная версия
Бессмертие длиною в жизнь. Книга 3
Конечно, все вокруг казалось странным, но как же иначе человеку разделять то, что уже приелось и, соответственно, стало привычным, и то, что вызывает легкую панику, похожую на трепет перед чем-то важным, что, соответственно, означает что-то новое и невиданное ранее. И почему людям свойственно бояться перемен? Почему им так боязно смотреть в глаза чему-то новому, при этом зная, что старое уже не сможет принести ничего хорошего, в то время как новое готовит уйму чу̀дных открытий, способных повергнуть душу в невероятный экстаз. Ведь если, к примеру, взять животное, которое обживает свое жилище, а потом годами не отдаляется от него дальше, чем на определенное расстояние, или же уходит, но с намерением вернуться, найдя свой дом по ему одному знакомым тропам и запахам, – ведь это все говорит о том, что животные не могут привыкнуть к переменам (естественно за исключением некоторых), а значит, и к их невероятным последствиям, которые, возможно, и погубили тот или иной вид. Ведь это уже понятно, что животное стало таким вследствие каких-то на то причин и факторов, – с этим сложно поспорить, – и даже если бы они вели себя по-другому, то это не было бы для нас такой неожиданностью, но так и оставалось чем-то привычным; и я даже могу с уверенностью сказать, что если бы все пошло по-другому (в моем случае речь идет о процессе выживания), то мы бы все равно не смогли бы преодолеть этот простой инстинкт – привязанность к старому, при этом боясь чего-то нового. И когда люди говорят, что человек, как вид, давно ушел от животных начал, то стоит спросить о том, как сильно они привязаны к своему дому, и, услышав в ответ: «Люблю свой дом! Мой дом – моя крепость!», нежно по-отцовски погладить их рукой по голове и ответить: «Подумай еще, не спеши…»
Но все же поборов свое призрение к Ольгиным словам, – она, собственно, не сделала ничего особенного, но ненароком затронула ту часть Германа, которая у него отвечала за вспыльчивость и призрение, – он просто пошел в сторону центра – как сложилось, уже исторического.
– Долой асфальт, да здравствуют извечные тропы нашего древнего города! – кричал с аффектацией пьяный молодой человек, опираясь рукой о стену дома. – Ненавижу эту «черную» землю, долой, снимите эту дрянь, хочу лицезреть землю – мою, родную!
И тут же его стали поддерживать несколько проходящих мимо людей, выкрикивая слова «долой» как свое имя, во время принятия присяги. И в каждом голосе слышалась уверенность в своих убеждениях, а не просто глухой бред прожжённого пьянчуги; было видно, что такие слова, такие возгласы поднимаются здесь не впервой, что даже крикнув первое, что придет в голову, проходившие мимо незнакомцы не смогли бы так быстро скоординироваться – а значит и в их головах было то, о чем кричал молодой человек уже падая вниз, ударяясь головой об асфальт.
– Зачем он нужен, – с той же аффектацией, как и у парня, кричала женщина. – На кой ляд? Автомобилей больше нет, так зачем нам эта дрянь, а? – желая привлечь внимание людей, в неистовстве кричала она. Но мало кому это было интересно. Многие уже изрядно выпили и расслабились, так что слова какой-то незнакомки, выкрикнутые непонятно зачем, здесь были совсем неуместны. Митинг был подавлен сам собой так же быстро, как и начался.
Упавший молодой человек, ударившись головой об асфальт, попытался встать, но руки невольно подкашивались, и после нескольких попыток, с прожжённым визгом, похожим на крик утопающего, он в последний раз плюхнулся наземь и так и остался лежать ничком у стены дома. И можно было бы подумать, что проходившие мимо люди тут же подбегут к нему, начнут расспрашивать, а все ли с ним в порядке, все ли с ним хорошо и отчего он упал, и, возможно, так бы и случилось в любой другой день, но сегодня на него никто не обратил внимания, кроме числа туристов из дальних регионов. Герману и Ольге это показалось весьма необычным, но даже и они, повидавшие на своем веку и не такое, просто прошли мимо, еще раз обернувшись назад, чтобы убедиться в том, что молодой человек совершенно пьян; сильно ударившись, он теперь, пускай и не спокойно, спал. Последнее, что видела Ольга, когда обернулась, – у парнишки из носа потекла тонкая струйка крови. «А, может быть, все-таки вернуться, – наивно подумала она, но тут же это желание прошло. – Хотя не стоит этого делать. С ним все будет хорошо, – утешая себя, подумала она».
– Чего это они так взбунтовались? – спокойно спросил Герман. – Чего это им вздумалось снимать асфальт? – Сказав эти слова, он посмотрел под ноги, дабы убедиться в том, что асфальт у него под ногами. – Вот он, и все хорошо. Ровные дороги… а тенистые скверы, как же там без плитки, ведь получается, что и ее тоже придется снимать. А еще площади, ведь, ведь они превратятся в утопающие болота, и вообще все, что здесь есть, это благодаря такому прочному покрытию! Чего это им вздумалось, а? – внезапно начиная злиться, говорил он. – Чего вам не хватает, а? – начал он с издевкой спрашивать у прохожих. Те удивленно останавливались, чтобы расслышать вопрос, но потом так и оставались стоять, не понимая, зачем остановились и что хотел от них этот человек. – Чего вам, а? Вам мало того, что сносят эти небоскребы… – тыкая пальцем на высотные здания, все так же спрашивал у проходящих мимо людей он.
– Да, да, это чудесно, друг мой, их наконец-то сносят! – не расслышав того, что сказал Герман, ответил низкого роста старичок с лысиной на голове. Когда он отвечал, он неуклюже сцеплял ладони друг с другом, отгибая при этом волосатые пальцы в разные стороны, будто боясь их испачкать. Оскалив желтые зубы, он стал смотреть на остановившегося Германа, видимо ожидая от него каких-то слов.
– Пошел к черту! – зло крикнул Герман, поедая того глазами.
– Успокойся, милый, дорогой, пойдем. Успокойся, прошу тебя, – начала его успокаивать Ольга.
Они пошли дальше. Старик простоял в таком положении, то сгибая, то разгибая пальцы рук, еще некоторое время. Он смотрел вслед уходящему человеку, который только что послал его непонятным ругательством; влажные от обиды глаза зачем-то искали фигуру мужчины, который почему-то так грубо с ним обошелся.
– Зачем ты так с ним? – кротко спросила Ольга.
Герман не удостоил ее ответом. «Милый… Дорогой… Почему она назвала меня так? Что за вздор. Потому что хотела, чтобы я поскорее ушел оттуда, оставив этого глупого старика? Да, так и есть! Она бы не сказала этого просто так, она бы не смогла меня назвать… ми-лым, – он поморщился. – Ми-лый – какое непривычное слово. Зачем, зачем она так со мной? – ему стало не по себе и даже появилось ощущение расстройства, которое приходит всегда неожиданно, но виду не показал. – Нет, нет-нет-нет, она меня совершенно не любит, – твердил он снова заученные слова. – Какая дрянь, какая дрянь…»
Его отвлекли слова Ольги, которая сказала, что они почти пришли. Герман помотал головой, осматриваясь по сторонам, отстраняясь от мыслей и приходя в себя.
Людей становилось все больше и больше. До высоток, как кричали люди вокруг, оставалось совсем чуть-чуть, и уже можно было разглядеть их величие и огромные размеры, которые представлялись совсем по-иному издали. Кто-то сидел, свесив ноги вниз, на невысоких постройках, окружающих площадь, надеясь увидеть намного больше, чем те, что стоят снизу, и гораздо отчетливее, чем те люди, которым приходилось тесниться в отдаленных уголках этого необозримого шествия.
Это странная инженерная задумка, которая, по сути, превратилась в своего рода фарс, была отделена довольно большим кордоном, образующим собой круговую заставу; на некотором расстоянии друг от друга стояли люди в черном, которые должны были предотвращать любую возможность перебраться через кордон, хотя никто это делать не собирался, и, даже при желании это сделать было бы весьма трудно, так как большая часть толпы уже находилось в изрядном пьяном бессилии, да и пограничные прозрачные плиты, толщиной в полметра и высотой в семь давали своим видом понять, что любая попытка перебраться через них не увенчается успехом, а только добавит хлопот тому, кто захочет через них перелезть.
У кордона стояла сцена, довольно высокая для того, чтобы выделить специально нанятого для такого случая человека, походящего на импресарио, который с нее говорил. Такие же сцены располагались еще в трех других сторонах света (то есть на севере, западе и востоке; южная сцена как раз находилось в стороне, где были Герман и Ольга), образуя между собой девяностоградусный мнимый угол.
Эти импресарио одеты были весьма официально, только цвета их костюмов были излишне вызывающи: пурпурная жилетка покрывала алую рубашку с голубовато-синей бабочкой у шеи, на ногах были надеты замшевые туфли темно-фиолетового цвета с черным рантом, брюки были красно-оранжевыми. Импресарио время от времени говорили всякий вздор, но людям они нравились, и после завершения той или иной истории слышался смех, разливающийся по толпе, начиная от самых ближних рядов, которые вплотную стояли к сцене, до задних, которые даже не понимали, почему смеются люди, стоящие перед ними, и сами хохотали лишь потому, что смеялись стоящие перед ними. «Они смеются, а мы что, будем стоять и глазеть – смотреться как дураки?» – думали задние ряды, которые постоянно пополнялись новой толпой зевак, спешившей посмотреть на историческое событие, и тоже смеялись. Лишь только люди, охранявшие кордон, не смеялись, во-первых, потому что с утра не брали ни капли в рот, а во-вторых, потому что не положено.
– Ну что же, зачем мы сюда сегодня пришли? – спросил импресарио, лица которого не было видно. Ольга пыталась представить его лицо по голосу. Получалось не очень хорошо: перед глазами плавали части лиц, некогда виденные ею в разных частях Земли. Стереотипные и убогие, они складывались в усатого молодого парнишку, которого она когда-то видела в юго-восточной Азии, усы у него свисали с подбородка всего на несколько сантиметров, начинаясь от ямочки под носом и заканчиваясь симметрично с двух сторон под левой и правой щекой, но даже такая неказистая бороденка придавала тому парнишке лет десять свыше того, сколько ему было на самом деле; и еще обязательно несколько красных прыщей и рубцов, которые, как Ольге казалось, должны были завершать образ этого самого импресарио. Но так или иначе этого нельзя было узнать не подойди они вплотную к человеку, стоящему на сцене, а это было сделать весьма затруднительно, а если говорить честно – то вообще невозможно.
– Снести это уродство! Да, снести… Долой! – кричали с разных сторон невпопад люди, отвечая импресарио. – А ну его! Долой!
Те, кто стоял ближе всех и был еще в состоянии отличать слова от шума в голове, видели, как импресарио улыбнулся, услышав эти крики из толпы.
– Так будем же праздновать этот день, как никогда не праздновали! – вскрикнул он, простирая руки к небесам. – Благодаря губернатору эти неказистые валуны скоро перестанут существовать, так скажем ему спасибо! – и, устремив взгляд на толпу, он стал ждать, как те себя поведут.
Толпа взревела. И тут и там были слышны одобрительные возгласы. «Да пропади он пропадом!» – прокричал один трезвый мужчина в шляпе, но сквозь шум его никто не расслышал.
Импресарио был доволен тем, что видел. Ему было приятно слышать одобрительные возгласы, как он думал, в свой адрес, хотя отчасти те относились либо к пустоте, либо к тем, кто разрешил устроить этот фестиваль; так или иначе импресарио ликовал. Он находился в центре внимания, и, как и положено людям с завышенной самооценкой, злобно ухмыляясь, думал: «Ну и сброд, ну и швах!» Его не постигали неудачи, его не посещало счастье, доступное глупым людям, которые даже не задумываются над тем, как жить, но при всем при этом, этот человек стал посмешищем для публики, ее сущностью и самой важной частью.
За его спиной располагались руины уже снесенных высотных зданий: их еще не успели расчистить до конца, оставив все так, как есть, скорее всего, для того, чтобы не заниматься ерундой лишний раз (чтобы потом убрать все разом, – как сказал губернатор), да и к тому же это придавало свою толику необычайного, чего-то нового, необъятного, но в то же время, в каком-то смысле, прекрасного и завораживающего. Эти руины придавали своеобразность тому месту, где скопилось такое количество людей: стеклянные плиты, из которых собственно и состоял кордон, были полностью облепленные мелкой сизой пылью, но все же прозрачность свою потеряли не полностью, а только отчасти; за стеклами лежали обломки стен и стеклянных панелей (большую часть обломков и самые крупные обломки вывезли в основном для того, чтобы расчистить площадь), разломленные пополам старые бетонные стены, а так же огромная часть того, что не стали выносить из здания: столы, стулья, старую технику – все это валялось так: местами раздавленные предметы быта, разломленная под весом руин мебель, а так же мелкие куски всего-всего, что всегда валялось под рукой, и то, что всегда так трудно найти или, наоборот, потерять.
Нельзя было сказать, что стоять в такой толпе, где все дышали друг другу либо в спину, либо в правое или левое плечо, было неприятно. В воздухе стоял запах чего-то особенного, непривычного, и даже, вместе с тем, запах пота и смрада, витающий повсюду, становился частью этого чего-то важного, и, как бы ни хотелось вскрикнуть: «Да пойдите же вы все к черту!», было необычно и весьма странно ощущать, что все эти запахи и ощущения становятся приятными в том смысле, что от них совершенно не хочется избавиться, но даже наоборот, вдохнуть полной грудью и остаться стоять здесь, среди бесконечности всевозможных случайностей.
«Мне хотелось кричать, разнести в пух и прах этого мужчину, который постоянно пихал меня в бок и говорил: «Смотри, смотри, это он, это он!» – позже вспоминал Герман. – А эта женщина с желтыми зубами… ее зловонный запах изо рта, что достигал моего лица даже среди такого огромного пространства несмотря на то, что вокруг меня стояло столько других людей, – этот запах еще долго стоял у меня в голове. Ее улыбка застряла в моем мозгу картинкой, словно надоедливый мотив, который все играет, и играет, и играет, будто ему больше нечем заняться, кроме как летать у меня под носом. Крики мужчины в черной одежде, которую я был не в состоянии рассмотреть. Это был такой смрад, такой сброд, что даже страшно не то, что запомнить это, но даже подумать об этом…»
Ольга же думала немного по-другому, и если ненадолго забраться к ней в голову, чтобы аккуратно посмотреть то, о чем она думала или, можно было бы сказать, переваривала, то получится примерно следующее: «Зачем меня пихают, неужели нельзя спокойно стоять на своем месте? А вы, мужчина, ой, зачем же вы на меня падаете, постоянно извиняясь, будто бы это случайность? Как это глупо, зачем же вы… Не надо, не стоит. А вот и снова говорит этот парнишка-азиат. Я помню, я помню его! Но как же он оказался здесь и главное – зачем? Какими ветрами его сюда занесло… ну, да ладно, сейчас не об этом. Ах, мужчина, опять вы на меня падаете, бросьте, это уже ничуть не смешно. Ах, его грустное лицо, отчего мой милый не рад? Тогда не буду его обнимать, боюсь… Вот только отчего он такой хмурый? Мне страшно…» – А дальше начиналась такая тирада мыслей, что невозможно описать их истинное значение, их связь между собой. Наверное, это случалось оттого, что ее мозг был неспособен долго функционировать и функционировать исправно, как говорил психолог Ольги: до̀лжно, ввиду долгих и мучительных ночей, проведенных наедине с собой. Отстраняясь от мира и реальности, она научилась быть спокойной, уравновешенной, но только не для той реальности, в которой жили остальные, а для какой-то другой, своей: мирной и всегда неизменной.
Импресарио, подготавливающий людей к чему-то новому, великому и грандиозному, продолжал неугомонно говорить, льстивший самому себе, строивший заумные предложения лишь только для того, чтобы как-то, как ему казалось, затуманить, задобрить и вместе с тем развлечь толпу.
Отовсюду слышались разговоры, и если вслушаться, то можно было различить несколько важных тем, обличающую всю подноготную человеческого сознания, все, что может взбрести в голову: иногда это было что-то личное, подвластное развязавшемуся языку, а иногда что-то общее, которое касалось в основном того, что и как происходит вокруг. Люди говорили о том, о чем им хотелось говорить, о том, что было в моде, было правильно или даже о том, что им казалось существенным в данную минуту.
Кульминация достигла своего предела, и теперь даже импресарио не мог перекричать ту разъяренную толпу. Создавалось впечатление, что еще чуть-чуть и случится что-то страшное, так как живая, практически непролазная площадь, состоящая из людей, поддавшаяся общему задору, начинала выходить из-под контроля, которого в принципе и так не существовало, но поскольку раньше массу сдерживала мораль и подобные ей абстрактные паттерны, сейчас все стало выходить за пределы норм, которые обычно сдерживают человека от всяческих распутств и которые так бесполезны на общем фоне индивидов, которые не думают сами, а только и делают, что смотрят на окружающую их толпу. И когда всякий субъект начинает смотреть на другого, такого же субъекта, становится непонятно, кто же на кого равняется и кто на кого хочет быть похож. Но все оказывается настолько просто, что никто не успевает ничего толком понять, и только общий шум и гам подгоняет людей делать то, что в конечном итоге превращается в хаос. Один случайный жест, случайный взмах рукой, подневольный крик, поднятый оттого, что кто-то кому-то наступил на ногу или же просто сокращение мышцы руки, ставшее последствием удара в плечо своему соседу, который точно так же, не осознавая что делает, начинает расталкивать и бить тех, кого видит и ощущает около себя, и тогда наступает вакханалия, которая со временем завершается побоями, погромами и другими бесчинствами со стороны простых, как казалось бы, миролюбивых граждан, собравшихся на мирный митинг или же обычный смотр чего-то там, что изначально казалось очень важным.
Конечно, вышестоящие представители власти в городе понимали это и еще то, что времени остается все меньше и меньше. Для чего? Для того, что усмирить этих разгорячившихся мужчин и женщин, которым они сами же и дали вволю насладится свободой и простыми меркантильными радостями, шалостями и безумствами.
Кто-то сверху сказал: «Время пришло». Затем, передавая эти слова все дальше и дальше, они доходили до нужных ушей.
Импресарио сначала затих, но потом взревел, призывая людей к всевозможной тишине и порядку.
– Друзья, прошу вас, пожалуйста, тише. Сейчас начнется… – не без загадочности сказал он.
– Сейчас начнется…
– Уже скоро, уже скоро…
– Смотрите, вон там, наверху, что-то есть, – говорил кто-то ослепленный солнечным лучом, уверенный, что пятно на здании – это очень важно.
– Чувствуете этот запах? Это запах приближающегося счастья! – уверенно, с невероятным апломбом, прокричала старуха, которая много повидала на своем веку, но все еще верившая, что такие вещи, как снос старых высотных зданий, в постройке которых участвовал еще ее дед, изменят ее крохотный мир к лучшему.
Толпа снова взревела, но теперь в ней ощущалась одобрительная склонность к тому, что скоро произойдет, в то время как до этого нельзя было сказать точно, чего ожидать от такого количества людей, которые думали по-своему, по-своему делали выводы, определявшие судьбу того или иного исхода, и даже смотрели на одни и те же вещи по-своему, что в корне меняло принцип человеческого однообразия, которое, в сущности, охарактеризовали так только для того, чтобы легче было управлять массами.
– Смотри, смотри, сейчас что-то должно произойти, – тихо сказала Ольга. Герман ее не услышал, все так же продолжая смотреть куда-то вдаль, но после того, как, напрягая связки, она повторила свое наблюдение, Герман, повернув в ее сторону свою голову, окинул ее странным, туповатым взглядом.
– Непременно, – сухо отозвался он и снова продолжил что-то высматривать вдали.
Тем временем взвыла сирена, звук которой разлетался по всей площади, достигая ушей каждого, кто находился в радиусе ее действия. Она вывела из оцепенения тех, кто был не в состоянии трезво оценивать ситуацию, и привела в напряженное состояние тех, кто был неожиданно повержен этим противным звуком, покрывшим площадь, как ледяной дождь, которого никто не ожидал.
Еще несколько минут такой звук оставался висеть в воздухе, после чего резко прекратился. На несколько секунд показалось, что наступила абсолютная тишина, и это несмотря на то, что везде – то тут, то там – разносились вопли, производимые на свет теми, кто никак не мог понять, оглох ли он или просто сошел с ума после такого назойливого гудения в голове. Если можно было бы охарактеризовать эту тишину каким-то людским свойством, то, наверное, больше всего ей подошло бы слово беспардонность, аморальность; если не считать того, что звук сирены так внезапно ошеломил неподготовленную толпу, то можно сказать, что точно так же он и прекратился, обнажив всю подноготную – то есть все то, что было скрыто под слоем шума площади, на которой теперь озадаченно стояли тысячи и тысячи ничего не понимающих полуживых людей, – по ощущениям полумертвых или ушедших в глубокий транс, став полноценными сомнамбулами.
Все равно не было такой тишины, которую можно подразумевать под этим словом, – то есть абсолютной, – но была тишь, за которой следует буря: грозная, неожиданная, сметающая все и вся, не жалея ни детей, ни стариков, ни женщин. По углам шушукались парочки, которые не знали, что больше всего вызывает восторг: то ли праздник, ослепительный и неповторимый (как казалось подавляющему большинству, хотя из года в год ничего не менялось; пьянство и похоть – главные атрибуты фестиваля), то ли их единственная сокровенная любовь, то ли и то и другое вместе.
Внезапно гигантские прожекторы на дирижаблях загорелись желтым светом. Лучи сошлись в одной точке – посередине небоскреба, – после расходясь вверх и вниз, полностью заполняя стеклянные панели высотки.
– Чего ты привязался, иди отсюда, – злостно приговаривал Герман, отталкивая от себя неспособного стоять на ногах пьянчугу. – А тебе чего? – спрашивал он у других возмущенных навалившихся людей, которые делали это не специально, но только в силу обстоятельств. Толпа уже превратилась в один огромный организм, и если где-то кто-то упал, толкнув соседа в спину, а тот, не удержавшись, стал падать дальше, то такой процесс продолжался до тех пор, пока кто-нибудь не будет в способности устоять на ногах, что маловероятно; как карточный домик разрушается весь при падении одного из ярусов, который является частью сложной системы, так и здесь: если падал один, то за ним начинали падать другие, что в конечном итоге превращалось в грандиозную потасовку, и в таком случае было странно, что еще оставались люди в относительно уравновешенном состоянии. В другой ситуации давно бы началось побоище, где пострадали бы не только зачинщики и участники драки, но и невинные люди.
– Ой, ой, – крутя головой по сторонам, пыталась возмущаться Ольга. – Хватит, пожалуйста. – Она оказалась в тисках, которые сдавливают всё, что попадется под руку.
Герман, понимая, что рано или поздно придется это сделать, обхватил Ольгу с двух сторон своими крепкими руками и стал стоять в таком неудобном положении, принимая на себя все удары.
– Спасибо, – мило, но как-то болезненно-отстраненно улыбнувшись, сказала она.
Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, думая каждый о своем.
– Смотри, вон там, вон. – У нее не было возможности показать пальцем, поэтому она кивнула головой. – Человек лежит… Он мертв? – вопрос был больше риторический, но Герман все же ответил.
– Наверное, – как-то слишком мягко ответил он. Ему на секунду показалось, что все его существо размякло, что его привычная мизантропия под воздействием женского взгляда куда-то исчезла. Побоявшись всего этого, он снова принял суровый взгляд, сдвинув к центру брови, и ответил так, как считал нужным ответить: – Такое бывает, умер и умер. Без этого никуда!
Ольге не хотелось туда смотреть, но что-то все же заставляло ее это делать. Исступленная, она всматривалась в смерть как в нечто естественное, чем оно в принципе и было. Ей уже хотелось отвернуться, но глаза этого совсем еще мальчика, лет четырнадцати, безжизненно смотрели, как ей казалось, на нее, хотя на самом же деле они никуда не могли смотреть – они глядели в никуда и познавали ничто. Никто не замечал того, что под ногами кто-то, а именно мальчик лет четырнадцати, лежит; никому до этого не было никакого дела, но Ольга, немного нагнувшись при помощи сильных рук Германа, уйдя от одной реальности, той, которая была над головами людей, ушла в другую – ту, которая находилось на уровне людских ног, туда, где обитали зловонные запахи пота и грязи. В этом мире она наблюдала за ним – мальчиком, который, распластавшись, безжизненно лежал на спине; его шея болталась, как веревка, которая свисает с бревна на виселице, переворачиваясь с одного бока на другой; ребра, видимо, были сломаны и вогнуты внутрь, разодрав внутренние органы. «Возможно, его мать все еще ищет его, крича безумным воем, спрашивая у прохожих… но никому нет дела, – разговаривала Ольга сама с собой. – Его глаза. Сколько в них понимания и беспечности… смерти… и жизни». Ноги мальчика плясали безостановочно, изворачиваясь точно так же, как и его шея, под натиском чьих-то ботинок. «Его глаза, его глаза…» – безумно стонала Ольга. Она все всматривалась ему в лицо, надеясь увидеть там откровение, и казалось, что ответ уже близко, но в этот момент на голову мальчика кто-то неаккуратно наступил: лицо исказилось, рот превратился в бесконечную улыбку, а затем скукожился в маленькую отвратительную складку. Ольге мерещилось, что мальчик кричит, зовет на помощь. Ее голова, как резиновый мяч, пульсировала, и создавалось впечатление, что вот-вот и она лопнет; ей играли как пластилином, теплым и податливым.