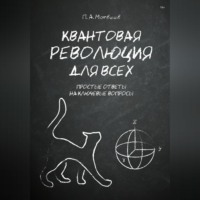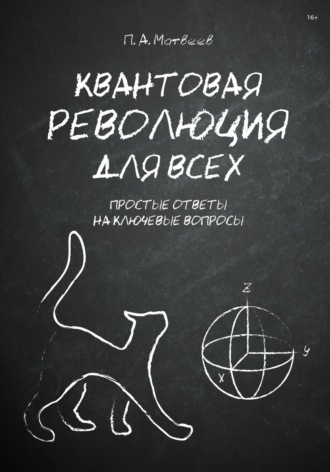
Полная версия
Квантовая революция для всех

Платон Матвеев
Квантовая революция для всех
Введение: Момент, когда всё изменилось
Первое волшебствоВ Советском Союзе начала 1980-х годов, а я тогда ещё не окончил школу, компьютеры были редкостью и чем-то загадочным. Они существовали в мире, далёком от обычных людей —спрятанные за кодовыми дверьми в научно-исследовательских институтах, на военных объектах и в отдельных вычислительных центрах крупных вузов. Персональных компьютеров в том виде, в каком мы их знаем сегодня, практически не существовало. Самыми доступными для большинства людей «вычислительными мощностями» были программируемые калькуляторы, и даже они были крайне редки. Сама идея о том, что их можно использовать во всех областях жизни была чем-то, о чём задумывались только писатели-фантасты.
Я никогда не забуду тот момент, когда впервые получил в свои руки советский программируемый калькулятор «Электроника Б3-34». Это было похоже на волшебство. Нет, это не было тем «волшебством», с которым у нас ассоциируются любые передовые технологии. То было глубинное, меняющее жизнь волшебство, которое происходит, когда ты впервые своими глазами видишь возможности, выходящие за пределы твоей текущей реальности.
Калькулятор попал ко мне благодаря удачному стечению обстоятельств и в удачный момент. В один прекрасный день я просто заметил его среди вещей моего отца, профессора политехнического института. В те дни подобные «передовые технологии», если и появлялись в обычных магазинах, не обязательно сразу привлекали толпы энтузиастов-поклонников, как происходит в наши дни практически с каждой технологической новинкой. Как показали последующие события, этот гаджет оказался для меня совсем не тем обычным инструментом инженера или учёного, каким он, возможно, задумывался. Он стал для меня порталом в будущее. Но давайте обо всём по порядку.
В моей комнате, в нашей трёхкомнатной квартире, стоял большой такой рабочий стол со множеством ящиков и отделений, добротно сделанный в одной из стран тогдашней Восточной Европы из твёрдого дерева, покрытого качественным лаком. Традиционно такие столы покрывали скатертью, поверх которой клали лист оргстекла, а под ним находили своё упокоение всякие полезные вырезки из журналов и подобные вещи. Этот стол стал моим командным центром, моей лабораторией, моим окном в будущее, которое было уже совсем близко за горизонтом. Калькулятор прочно занял на нём своё место рядом с научно-популярными журналами той эпохи: «Техника – молодёжи» и «Наука и жизнь». Эти журналы сами по себе были сокровищами, наполненными статьями об освоении космоса, новых технологиях и научных открытиях со всего мира. У «Электроники Б3-34» же был тот самый специфический пластиковый дух нового электронного гаджета – смесь сладковато-горького запаха свежих печатных плат, новых микросхем и атмосферы нераскрытого ещё потенциала. Аромат был опьяняющим для подростка, зачарованного новыми технологиями. Я был загипнотизирован светящимися зелёным цифрами на его дисплее, мягкой люминесценцией, которая казалась почти живой в полумраке моей комнаты, освещаемой лишь настольной лампой.
Нажатие на эти кнопки требовало некоторого усилия и сопровождалось специфическими щелчками – это были не те мягкие, отзывчивые клавиши, к которым мы привыкли сегодня. Каждое нажатие требовало намерения, осознанной решимости выполнить задуманное тобой вычисление. Но это тактильное сопротивление делало каждое нажатие кнопки значимым, как будто я командовал чем-то действительно мощным и важным.
К калькулятору прилагалось руководство, которое было одновременно пугающим и вдохновляющим. Предельно техническим языком в нём объяснялись используемые калькулятором команды программирования – нечто совершенно чуждое большинству людей той эпохи. Там описывалось, как создавать циклы вычислений, там были условные операторы – понятия, включённые в первый курс «Основы информатики», который появится в школе лишь годом позже, после нашей параллели. Так я фактически оказался в будущем.
Приключения с атласомНаучно-популярные журналы той эпохи, подобно магическим книгам, помогли мне превратить этот экзотический гаджет, вкупе с имевшимся у меня огромным географическим атласом, в волшебный хрустальный шар. С его помощью я смог осуществить кругосветное путешествие на воздушном шаре, рассчитывая маршруты передвижения и высоту полёта на основе реальных географических данных. Это была не просто игра с числами – это был мой первый опыт того, что мы сейчас назвали бы компьютерным моделированием и симуляцией.
Я помню, как проводил всё своё свободное время, прокладывая курс вокруг земного шара, тщательно следуя западным ветрам в северном полушарии. Атлас показывал мне преобладающие направления и скорости ветра на разных широтах и в разные сезоны, высоты гор, которые могли бы повлиять на траекторию полёта моего воображаемого шара, и океанские течения, которые могли бы влиять на погодные условия. По сути, я сам составлял для себя свой собственный прогноз погоды, ограниченный только данными, доступными в моём атласе советской эпохи, и подкреплённый «вычислительной мощностью» моего калькулятора.
Задача обхода высоких горных массивов Евразийского континента не давала мне уснуть. Я часами рассчитывал оптимальные траектории полёта над сибирскими лесами, определял безопасные высоты для преодоления Уральских гор и прокладывал курсы, которые использовали бы преимущества устойчивых воздушных потоков, избегая при этом опасных погодных условий. Я изучал североамериканские хребты – Скалистые горы, Аппалачи, прибрежные хребты – рассчитывая, как воздушный шар мог бы обойти или перелететь эти препятствия, не поднимаясь слишком высоко, где у меня могли бы возникнуть проблемы с моим воображаемым примитивным оборудованием для нагрева воздуха в шаре.
Каждый расчёт включал множество переменных: скорость и направление ветра на разных высотах, сезонные погодные условия, теоретические характеристики моего воображаемого шара, требования к топливу для горелки. Я неосознанно развивал навыки системного мышления, оптимизации и решения сложных проблем, которые хорошо послужили мне в последующие годы.
Атлас стал моей базой данных, заполненной рукописными пометками на полях и карандашными линиями, отмечающими альтернативные маршруты. В отдельной тетради копились таблицы расчётов для различных сценариев. Я создавал планы на случай непредвиденных обстоятельств для разных сезонов, разные маршруты для разных погодных условий и сравнительный анализ компромиссов между различными подходами.
Некоторые маршруты отдавали приоритет скорости, используя преимущества самых сильных ветров, даже если это означало полёт над более опасной местностью. Другие отдавали приоритет безопасности, выбирая более длинные пути, которые избегали основных препятствий и непредсказуемых погодных условий. По сути, я разрабатывал стратегии действий, используя множество переменных. Через много лет появится огромное множество компьютерных игр и прикладных программных продуктов, для которых это станет неотъемлемой частью. А тогда эта игра с цифрами стала для меня настоящим откровением.
Космические расчётыПодобным же образом я представлял космические миссии, существовавшие только в моей голове и в маленьких зелёных цифрах на экране калькулятора. Это были не простые фантазии – это были детальные инженерные опыты, которые выходили за рамки того, что было вычислительно возможно с моими ограниченными ресурсами.
Я проводил «тестовые запуски», рассчитывая параметры расхода топлива и тяги двигателей, необходимые для преодоления земного притяжения, определяя оптимальные окна запуска на основе взаимного расположения планет и спутников и вычисляя оптимальные моменты коррекции траектории для межпланетных путешествий. Представьте только: я экспериментировал с различными начальными параметрами космических кораблей – распределением массы, топливными нагрузками, характеристиками двигателей и профилями миссий – подобно тому, что инженеры SpaceX делают сегодня. Просто тогда это происходило на гораздо более примитивном уровне.
Космические миссии, которые я проектировал, варьировались от простых орбитальных облётов Земли до сложных межпланетных экспедиций. Для миссий на Марс я рассчитывал энергетические требования для манёвров перехода на траекторию к Марсу, время, необходимое для прибытия, когда Марс будет в оптимальном положении, и резервы топлива, необходимые для обратного путешествия. Я рассматривал гравитационные манёвры у других планет, чтобы эффективно расходовать каждый грамм топлива.
Совершая орбитальные полёты в своём воображении, я представлял себя Юрием Гагариным и пытался представить, как выглядела бы Земля оттуда. Я рассчитывал орбитальные скорости, необходимые для поддержания различных высот, периоды различных орбит и то, как орбитальная механика повлияла бы на окна связи с командным центром. Я рассчитывал сход с орбиты, последствия сопротивления атмосферы на низкой околоземной орбите и точность, необходимую для манёвров сближения и стыковки на орбите.
Я пробовал различные траектории и профили миссий, рассчитывая, сколько топлива мне нужно для каждого манёвра и сколько времени он займёт. Я открывал для себя парадоксальные аспекты орбитальной механики – как замедление может поднять вашу орбиту, как наиболее эффективный маршрут к другой планете может включать движение сначала в противоположном направлении, и как выбранный момент может быть более критичным, чем грубая мощь.
Сложность этих расчётов означала, что мне требовалось много дней, иногда недель, чтобы завершить эти виртуальные экспедиции.
Волшебная вселеннаяОднако не сами вычисления очаровывали меня. Я был в восторге от потенциальных возможностей того, как технология позволяла взять содержимое моего воображения и сделать его реальным. Каждое нажатие кнопки, каждое светящееся на том маленьком экране число были для меня шагами в более обширную вселенную открытий и возможностей.
Это было не просто получение правильных ответов на математические задачи. Калькулятор служил мостом между абстрактным и конкретным, между теоретическими возможностями и практическими ограничениями. Через вычислительное моделирование я мог исследовать сценарии, которые было бы невозможно протестировать в реальности, экспериментировать с переменными, которыми было бы слишком опасно или дорого манипулировать в физическом мире, и перебирать альтернативы дизайна со скоростью, которая была бы немыслима без помощи компьютера и программ.
Я помню, как сидел часами со своим атласом, пытаясь понять мир не таким, каким он был, а таким, каким он мог бы быть. Комбинация географических данных, математического моделирования и вычислительного потенциала открывала новые способы мышления о пространстве, времени, ресурсах и возможностях человека. Я проводил мысленные эксперименты, подобные работе профессиональных инженеров и учёных, ограниченные только масштабом моего воображения и вычислительными ограничениями моего калькулятора.
Вычисления дали мне чувство контроля над бесконечным – способ превратить мечты во что-то осязаемое, даже если это было всего лишь на крошечном дисплее калькулятора. Речь шла не о контроле над самой реальностью, а о расширении границ того, на что был способен человеческий анализ и планирование в области, которые в противном случае оставались бы чисто умозрительными.
Этот опыт научил меня, что вычислительная мощность – это не только скорость или эффективность – это расширение границ того, что можно исследовать, понимать и оптимизировать. С моим калькулятором я мог моделировать сценарии, проверять гипотезы и перебирать альтернативы со скоростью, которая была бы невозможна с чисто умственными вычислениями или методами с использованием одних лишь бумаги и карандаша.
Уроки вычислительного мышленияЭти небольшие, творческие эксперименты с технологией преподали мне ценные уроки, которые оказались основополагающими на протяжении всей моей жизни: вычисления – это не только числа и уравнения. Это исследование, творчество и решение проблем способами, которых вы и представить не могли.
Проекты с воздушным шаром и космическими кораблями научили меня системному мышлению – пониманию того, как множество переменных взаимодействуют сложными способами и как изменение одного параметра может вызвать каскад изменений по всей системе.
Я открыл силу итеративного совершенствования, где первоначальные грубые приближения могли постепенно улучшаться через систематический анализ и тестирование. Каждый цикл вычислений раскрывал новые идеи, предлагал альтернативные подходы или выявлял ранее не рассмотренные ограничения.
Самое главное, я узнал, что вычисления могут быть творческим процессом. Калькулятор был не просто инструментом для проверки заранее определённых решений – это был инструмент для исследования и открытия. Меняя исходные допущения, корректируя параметры и исследуя альтернативные сценарии, я мог обнаружить возможности, которые не пришли бы мне в голову посредством чисто умственного анализа.
Со временем я понял, что настоящее волшебство было не только в том, что эти устройства могли делать, но и в том, что они позволяли мне воображать и пробовать. Калькулятор расширял мои когнитивные способности, позволяя мне более систематически думать о сложных проблемах и исследовать возможности, которые были бы за рамками моих собственных чисто умственных способностей.
Этот опыт породил мою увлечённость на всю жизнь взаимодействием человеческого творчества и вычислительных возможностей. Я начал понимать, что самые интересные применения вычислительной техники будут не в автоматизации рутинных задач, а в расширении границ человеческих возможностей к новым горизонтам и открытиям.
Свидетель компьютерной революцииЭтот образ мышления сопутствовал мне на протяжении последовавших за этим десятилетий, когда я стал свидетелем компьютерного бума, почти целиком происходившего на моих глазах. От тех ранних дней с «Электроникой Б3-34» до персональных компьютеров, интернета, смартфонов и облачных вычислений – меня восхищали новые сферы практического применения компьютеров и того, как они толкали цивилизацию к новым возможностям.
Переход от калькуляторов к персональным компьютерам был особенно захватывающим, потому что он представлял качественный сдвиг в вычислительных возможностях. Ранние персональные компьютеры, такие как Apple II и IBM PC, предлагали не просто больше вычислительной мощности, но совершенно новые способы взаимодействия с информацией и решения проблем.
Я наблюдал, как графические пользовательские интерфейсы сделали применение компьютеров доступным для нетехнических пользователей, как сетевые технологии связали изолированные компьютеры в мощные системы, и как программные приложения превратили абстрактную вычислительную мощность в практические инструменты для управления, производства, просвещения и развлечений.
Каждый технологический прорыв открывал новые возможности, которые были немыслимы всего несколько лет назад. Настольная издательская система сделала создание документов профессионального качества доступным для всех. Приложения электронных таблиц сделали финансовое моделирование доступным для малого бизнеса. Системы баз данных позволили организациям управлять и анализировать огромные объёмы информации с беспрецедентной эффективностью.
Появление интернета вызвало особенно масштабные перемены, потому что в нём соединились вычислительные мощности с глобальными коммуникациями и неограниченным обменом информацией. Внезапно те же принципы, которые я испытал со своим калькулятором – оптимизация, моделирование, итеративное совершенствование – начали применяться одновременно в обширных сетях взаимосвязанных систем.
На протяжении всего этого пути со мной осталось то же ощущение чуда, которое я испытывал подростком, прокладывая маршруты для воздушного шара через континенты. Каждый технологический прорыв открывал новые возможности для человеческого воображения и достижений, новые способы решения проблем, которые ранее были неразрешимыми, и новые возможности для расширения человеческого потенциала посредством вычислительных инструментов.
Ускорение было поразительным. Возможности, которые требовали специализированных знаний и дорогого оборудования в 1980-х годах, стали доступны обычным потребителям в 1990-х. Задачи, которые с великим трудом решали инженеры и учёные высокого уровня, стали доступными для студентов и любителей. Доступность вычислительных мощностей трансформировала не только возможности отдельных людей, но и целые слои общества и сектора экономики.
IT-потолокНо затем наступил момент, который изменил всё, что, как я думал, я знал об информационных технологиях. Где-то между 2014 и 2016 годами я работал в медиакомпании, которая использовала электронное оборудование собственной разработки для восстановления аудио- и видеозаписей, сделанных в середине XX века, а также для создания передовых образовательных фильмов и презентационных видео.
В рамках этой деятельности раздвигались границы того, что до этого считалось технологически возможным. Физическое состояние архивных аудиозаписей часто было ужасным: множество слоёв шума, искажений и низкий уровень сигнала, что требовало сложных алгоритмов для отделения исходной аудиоинформации от последствий непрофессиональной записи, неосторожного использования и плохих условий хранения. Восстановление видео включало покадровый анализ, коррекцию цвета, стабилизацию и методы реконструкции, которые требовали огромных вычислительных ресурсов.
Компьютеры также широко использовались там для международных переводов на десятки языков, десятки миллионов слов на язык. Требования к качеству перевода также были высочайшими: с адаптацией, требовавшей понимания нюансированных значений, исторических отсылок и технической терминологии в десятках различных областей.
Именно в этой среде доведения технологии до её пределов я начал понимать, что существующие технологические подходы приближаются к пределам своего физического потенциала. Вычислительные потребности увеличивались настолько, что становились реальными фундаментальные ограничения, которые нельзя было преодолеть, просто купив более быстрые процессоры или добавив больше памяти.
Можно было продвинуться только до определённого предела в сторону уменьшения размеров вычислительных компонентов и повышения их плотности, и только до определённой степени можно было позволять этим компонентам нагреваться, работая на предельных частотах, так как их охлаждение потребовало бы слишком много энергии. Дело доходило до того, что система кондиционирования воздуха не могла справиться с теплом, которое вырабатывали десятки и десятки компьютеров, работающих в помещении.
Вычислительные требования восстановления записей из прошлого столетия и обработки миллионов слов на десятках языков сделали для меня реальными фундаментальные ограничения, к которым приближались имеющиеся технологии. Требовалась экспоненциально большая вычислительная мощность для каждого последующего шага в улучшения качества и масштабов работы, но традиционный путь увеличения скорости обработки информации, очевидно, больше не был жизнеспособным.
Реальность, которая двигала компьютерную индустрию десятилетиями и известная как Закон Мура, начала рушиться. Экспоненциальные улучшения вычислительной мощности, которые трансформировали общество за предыдущие пятьдесят лет, уступали место постепенным достижениям, давались ценой огромных вложений и неимоверно больших затрат энергии.
ОсознаниеЭто осознание вернуло меня к тому подростку, сидящему за лакированным деревянным столом с калькулятором и атласом и мечтающему о невероятных путешествиях. Ощущение чуда оставалось, но теперь оно сочеталось с признанием того, что нужны принципиально новые технологические подходы, если мы хотим продолжать двигаться к новым горизонтам человеческих возможностей.
На протяжении более пятидесяти лет индустрия информационных технологий работала на основе фундаментального допущения: компьютеры будут продолжать становиться экспоненциально быстрее, меньше и эффективнее. Это допущение, известное как Закон Мура, двигало инновации, бизнес-модели и карьерные пути. Оно стало основой трансформации от компьютеров размером с комнату до карманных устройств, более мощных, чем системы, которые отправили людей на Луну.
Но что происходит, когда это допущение рушится? Что приходит после Закона Мура, когда достигнуты физические пределы классических компьютерных технологий?
Ответ, как я обнаружил, лежит в странном мире квантовой физики – той самой области странных явлений, которая казалась чистой абстракцией, когда я впервые столкнулся с ней много лет назад.
Когда физика становится страннойМоё путешествие в квантовые вычисления началось с простого вопроса: если классические компьютеры достигают физических пределов, что дальше? Ответ привёл меня в самую парадоксальную область науки – квантовую механику, механику атомов и элементарных частиц.
В классической физике объекты имеют определённые свойства. Монета повёрнута либо орлом, либо решкой. Компьютерный бит имеет значение либо 0, либо 1. Частица находится либо здесь, либо там. Это кажется фундаментальными истинами о реальности, базовыми допущениями, которые имеют смысл на основе нашего повседневного взаимодействия с физическим миром.
Кроме того, в классической физике, чтобы перемещать вещи, нужно тратить время. Требуется время, чтобы причина создала следствие где-то ещё. Требуется время для передачи информации. Этот принцип локальности – идея о том, что объекты могут непосредственно влиять только на близлежащие объекты – кажется настолько очевидным, что редко подвергается сомнению.
Квантовая физика разрушает эти допущения способами, которые всё ещё кажутся невозможными даже после десятилетий экспериментальных подтверждений. На субатомном уровне частицы могут существовать в нескольких состояниях одновременно, бросая вызов нашему классическому пониманию определённых свойств. Они могут оставаться связанными через огромные расстояния мгновенно, нарушая наше интуитивное понимание локальности и причинности.
Частицы могут проходить через барьеры, которые должны быть непроницаемыми согласно классической физике, и появляться с другой стороны препятствий, изначально даже не имея достаточно энергии, чтобы пройти над или вокруг них. А самое странное то, что сам акт наблюдения квантовых систем изменяет их поведение фундаментальным образом, давая понять, что сама реальность может быть подвержена влиянию сознания и восприятия.
Это не просто абстрактные курьёзы или математические формализмы – это основа квантовых вычислений. То, что кажется нарушением здравого смысла, на самом деле создаёт беспрецедентный вычислительный потенциал, способный революционизировать то, как мы решаем сложные задачи.
Переход от классического к квантовому мышлению предполагает пересмотр фундаментальных представлений о природе реальности и принятие парадигмы, в которой неопределённость, вероятность и нетривиальные взаимосвязи рассматриваются в качестве вычислительных ресурсов, а не препятствий для познания.
Почему это важно для васВы можете подумать: «Это звучит интересно, но как это влияет на мою повседневную жизнь?» Ответ в том, что квантовые вычисления преобразят практически каждый аспект технологии и общества в течение следующих двух десятилетий, предъявляя требования и создавая возможности, которые затронут всех людей, независимо от их технического образования.
Рассмотрите эти сценарии, которые напрямую повлияют на вашу жизнь:
Ваша информационная конфиденциальность и безопасность: Каждый пароль, который вы используете, каждая онлайн-транзакция, которую вы совершаете, каждое зашифрованное сообщение, которое вы отправляете, основаны на математических алгоритмах, которые классические компьютеры практически неспособны взломать. Текущие системы шифрования полагаются на тот факт, что возведение больших чисел в степень или решение определённых математических задач заняло бы у классических компьютеров больше времени, чем существует вселенная.
Квантовые компьютеры взломают эти шифры за минуты, а это требует полного пересмотра подходов к кибербезопасности. Это не далёкая теоретическая угроза – это практический вызов, над решением которого организации работают прямо сейчас. Кредитная карта, которую вы используете, банковское приложение на вашем телефоне, безопасные коммуникации, на которые полагается ваш работодатель – всё это нужно будет перестроить на основе квантово-устойчивой системы безопасности.
Ваше здоровье: Полное понимание того, как работает тело, и поиск простой первопричины болезни в настоящее время занимает десятилетия и миллиарды долларов. Сложность биологических систем – белки, складывающиеся в определённые формы, генетические сети, регулирующие клеточные функции, иммунные системы, реагирующие на угрозы – включает квантово-механические процессы, которые классические компьютеры могут только приблизительно моделировать.