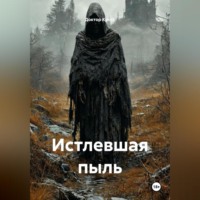Полная версия
Последний свет

Доктор Кросс
Последний свет
От автора
Каждая история о творце – это, в конечном счете, история об искушении. Искушении стать Богом. Взять хаос собственной души, боли мира, разрозненные обломки бытия и выковать из них новый, идеальный порядок. Дать миру не просто смысл, а ослепительную, неопровержимую Истину, завернутую в обложку из метафор и сюжетных поворотов.
Но за этим искушением всегда скрывается бездна. Вопрос, на который у искусства нет ответа, но который оно постоянно задает: какую цену мы согласны заплатить за эту Истину? И где та грань, за которой заканчивается служение искусству и начинается служение собственной гордыне, прикрытой риторикой о «высокой жертве»?
Глава 1: Пустая страница
Белый прямоугольник пылал в полумраке комнаты, ослепительный и безжалостный, как незапятнанный снег на месте давнего преступления. Он был единственным источником света в этом царстве теней, выхватывая из тьмы контуры пальцев, замерших над клавиатурой, нервный изгиб сведенных бровей, пустую фарфоровую чашку, на дне которой утонул последний след кофейной гущи, похожий на забытое предсказание. Курсор мигал. Раз. Два. Раз. Два. Ровный, метрономный, насмешливый такт. Он отмерял не время, он отмерял пустоту. Это был не звук, а его полная противоположность – звуковая черная дыра, поглощающая саму тишину, превращающая ее в нечто тяжелое, осязаемое, давящее на барабанные перепонки. Тиканье этих секунд было громче любого шума за окном – убаюкивающего гула мегаполиса, сирен, чьих-то далеких шагов. Это был звук тления. Звук затухания мысли, распада смысла.
Александр всматривался в экран до рези в глазах, словно пытаясь силой воли, магическим заклинанием выжечь на нем хоть одно живое слово. Но внутри была тишина особого рода. Не благодатная, творческая тишь, полная зреющих, еще не рожденных смыслов, а мертвая, выжженная соляная пустыня, где даже эхо боится родиться. Он помнил, каково это – когда история рвется наружу, требует бумаги, голоса, жизни, когда она бьется в тебе, как аритмичное, лихорадочное сердце. Когда персонажи говорят сами, спорят, плачут, а он лишь успевает, как прилежный секретарь Бога, записывать за ними их признания, их страхи, их поступки. Теперь они молчали. Вернее, они умерли. Или это умер он, а они, как верные псы, легли у его могилы и застыли в немой скорби? Вопрос, от которого в комнате, и без того прохладной, становилось совсем холодно.
За окном медленно угасал осенний день. Небо над городом было затянуто плотным одеялом свинцовых туч, из которых временами сеялась мелкая, колючая морось. Она не столько падала, сколько висела в воздухе, превращая его в сырую, промозглую субстанцию. Огни вечерних окон в домах напротив расплывались в этом влажном мареве, как акварельные кляксы, – тусклые, лишенные энергии, чужие. Природа за стеклом тоже замерла в немом ожидании, в той же тоскливой апатии, что и он. Деревья в сквере, уже почти голые, тянули к небу мокрые, черные ветви, словно моля о пощаде или в отчаянии взывая к безответному божеству. Эта картина резонировала с его внутренним состоянием, отражала его, делая физическим, осязаемым. Он был этим деревом – оголенным, застывшим, лишенным соков жизни.
Он был писателем. Это звание он носил как почетное клеймо, как диагноз, как проклятие, выжженное каленым железом на самой душе. Писатель – не тот, кто пишет. Любой, у кого есть руки, может водить ими по клавишам. Писатель – тот, кто не может не писать. Для кого неписание – это мучительная, противоестественная пауза, остановка дыхания, замедление пульса до критической отметки. А он мог. Уже три месяца. Девяносто дней. Две тысячи сто шестьдесят часов этого немого, унизительного диалога с мигающей черточкой на белом фоне. Он ненавидел ее лютой, животной ненавистью. Эта черточка была самым наглым, самым беспристрастным и бесчеловечным критиком. Она не говорила «плохо», «банально», «неискренне». Она просто молчала, впитывая в себя, как промокашка, все его робкие попытки, всю его источаемую энергию, всю его веру в себя, и не возвращала ничего. Ни звука. Ни всплеска. Ни искры. Только это равномерное, гипнотическое мигание – стук сапог часового у ворот его собственного разума.
Контракт, подписанный с видным издательством, лежал в ящике стола, под стопкой пожелтевших черновиков, которые теперь казались написанными другим человеком, чужим и талантливым незнакомцем. Он был его Сизифовым камнем. Аванс уже был потрачен на аренду этой самой квартиры с «видом для творчества» – видом на унылый осенний парк и серые многоэтажки – и на новый, сверхмощный ноутбук, который теперь с таким техногенным равнодушием унижал его. Дедлайн, некогда далекий и почти абстрактный, превратился в хищного, голодного зверя, чье горячее, пахнущее гнилым мясом дыхание он уже чувствовал у себя за спиной. Не написать – означало не просто вернуть деньги. Означало опозориться. Признать себя банкротом духа. Обнаружить, что весь его талант – лишь мираж, самообман, случайная удача, лопнувший мыльный пузырь.
Он ударил кулаком по столу. Глухой стук плоти о дерево прозвучал неприлично громко в этой давящей тишине. Чашка подпрыгнула, звякнув о блюдце жалобно и одиноко, как колокольчик на шее заблудившейся овцы. Пальцы сами собой, против его воли, потянулись к клавишам. Он набрал: «Человек сидел в комнате и смотрел на экран». Фраза прозвучала в голове плоской, казенной, мертвой. Глупо. Банально. Ложь. Он не «сидел». Он застревал, как самолет в густом тумане, теряя ориентацию и высоту. Он не «смотрел». Он вглядывался в собственную немоту, в бархатную тьму, что воцарилась внутри. Он стер всю строчку, с яростью зажимая кнопку Backspace, испытывая почти физическое удовольствие от того, как исчезает это доказательство его творческой импотенции. Белый прямоугольник снова сиял девственной, нетронутой, высокомерной чистотой. Чистотой могильной плиты, на которой еще не выбили имя.
И в этой тишине, словно насмехаясь над ним, откуда-то издалека, сквозь шум города и пелену дождя, прорвался обрывок музыки. Соседский ребенок учился играть на фортепиано. Это была простейшая, детская мелодия, упражнение на повторение, один и тот же незамысловатый мотив, раз за разом, с неправильным ритмом и фальшивыми нотами. Но в этой настойчивости, в этой наивной, топорной попытке что-то создать, прорваться сквозь неумелость, был какой-то пронзительный, щемящий смысл. Эта музыка, убогая и чистая, была гимном тщетности, саундтреком к его собственному провалу. Она входила в резонанс с тиканьем курсора, создавая сюрреалистический, душераздирающий дуэт – метроном безумия и гимн беспомощности.
Дверь скрипнула, нарушив этот странный музыкальный ритуал. В щель проник теплый, живой свет из коридора, и в нем возник силуэт. Софья. Она несла в руках новую чашку, от которой поднимался легкий, знакомый пар, пахнувший медом и сушеными цветами.
– Все еще в работе? – ее голос был тихим, заботливым, отлаженным, как будто она репетировала эту фразу, боясь спугнуть мифическое, ранимое вдохновение. – Я принесла тебе чай. Ромашковый. Чтобы ты успокоился и мог сосредоточиться.
Он не обернулся. Продолжал смотреть на экран, чувствуя, как ее присутствие заполняет комнату, становится осязаемым, почти давящим. Ее забота, такая искренняя, была еще одной клеткой, сплетенной из невидимых прутьев ожиданий и практицизма. Ее практичность – молчаливым упреком его хаосу.
– Спасибо, – буркнул он, и голос прозвучал хрипло, чужим, будто он долго не пользовался им или провел все эти часы в крике, который никто не слышал.
Софья поставила чашку на край стола, аккуратно, на специальную войлочную подставку, чтобы не осталось кольца. Ее движения были всегда точными, выверенными, экономными. Редактор до мозга костей, она и жизнь вычитывала, как рукопись, подчеркивая красным несоответствия и стилистические ляпы. Она мягко положила руку ему на плечо. Он вздрогнул, словно от прикосновения палача, предлагающего утешение перед казнью.
– Как продвигается? – спросила она, заглядывая через его плечо в зловещую, ослепительную белизну экрана. – О, я вижу, начал с чистого листа. Это иногда полезно. Кардинальное решение. Стереть все лишнее, чтобы добраться до сути, до ядра.
Он сглотнул комок раздражения, подступивший к горлу. Она не понимала. Для нее «стереть» – это рациональный технический прием. Убрать лишнее, чтобы осталась ясная, стройная, логичная структура. Для него это было актом самоубийства, расчленения собственного детища. Каждая вычеркнутая строка – это кусок плоти, вырванный из тела, по живому, с кровью и болью.
– Ничего не продвигается, Соня, – сказал он, наконец, отворачиваясь от экрана и глядя на нее. Ее лицо было спокойным, умиротворенным, освещенным мягким светом из коридора. Она жила в мире дедлайнов, планов, логических цепочек и четких глаголов. Ее мир был отлаженным, хорошо смазанным механизмом. Его – вздыбленной, хаотичной, первозданной материей, которая вдруг застыла, окаменела, умерла, не успев родиться. – Слова не идут. Вообще. Никакие. Они умерли. Здесь. Внутри. – Он ткнул себя пальцем в грудь.
– Не заставляй себя, – она погладила его по плечу, и ее прикосновение было легким, как пух, и тяжелым, как свинец. – Ты просто устал. Перенапрягся. Контракт, ожидания… Это давит. Тебе нужно отвлечься. Переключиться. Сменить пластинку. Может, сходим в кино? Или просто прогуляемся по парку? Воздух свежий, дождь почти прекратился…
Ее предложения были такими разумными. Такими правильными. Такими земными. И оттого – смертельными для того смутного, темного, дикого огня, что когда-то тлел в нем и звал за собой, в неизведанное. Отвлечься? Как можно отвлечься от собственного дыхания? От биения сердца? От этого зова в крови, этого наваждения, которое нельзя было заглушить ни кино, ни прогулками по аккуратным, благоустроенным, ухоженным паркам, где даже природа подчинялась муниципальному регламенту.
– Это не поможет, – отрезал он, и его голос зазвучал резко, как удар хлыста. – Мне не нужно «отвлекаться». Мне нужно писать. Это все, что мне нужно. Воздух, которым я дышу. Пища. Все остальное – суррогат.
– Но ты не пишешь, Саша. Ты уже который день сидишь и мучаешь себя, как грешник в аду. Это мазохизм. Самобичевание. Посмотри на себя. Ты не спал полночи. Ты нервный, как загнанный, голодный зверь. Может, проблема не в inspiration, не в этом романтическом ожидании музы, а в простой дисциплине? Давай составим график? Как раньше, помнишь? Ты работаешь с девяти до двух, потом перерыв, потом еще пара часов… Это работало всегда.
– Хватит! – его голос сорвался, громкий и резкий, заставив ее вздрогнуть и отшатнуться. – Хватит планировать! Хватит редактировать! Это не твой черновик, Соня! Это не рукопись, которую можно взять и выправить красной ручкой! Это моя жизнь! Моя плоть! Моя агония!
Он увидел, как боль, острая и глубокая, мелькнула в ее глазах, и ему тут же стало стыдно, гадко, мелко. Но стыд был слабее ярости, всепоглощающей ярости на себя, на нее, на весь этот уютный, душный, безопасный мирок, который они вдвоем построили и который внезапно превратился в самую изощренную тюрьму, где решетки были сплетены из любви и заботы.
– Я не редактирую твою жизнь, – тихо, но четко сказала она, отводя взгляд к темному окну, за которым замерзший город зажигал свои огни. – Я пытаюсь помочь. Я верю в твой талант. Сильнее, чем ты сам, похоже. Но талант – это еще и работа. Упорный, ежедневный, потный труд. А не ожидание молнии с неба, не надежда на божественную искру.
– Я не жду молнии! – крикнул он, и его крик показался ему слабым и жалким в сравнении с бурей, бушевавшей внутри. – Я жду пожара! Понимаешь? Пожара, который спалит все дотла! Который выжжет эту благополучную, комфортную пустыню! А ты предлагаешь мне ромашковый чай и график! Ты предлагаешь мне противопожарную систему, когда мне нужен факел!
Он встал, отодвинув стул с таким скрежетом, что он прозвучал, как вопль раненого животного. Прошелся по комнате, сжав кулаки, чувствуя, как мышцы на спине и шее натянуты, как струны. Ему хотелось крушить, ломать, вырваться на свободу. Из себя. Из этих стен, окрашенных в умиротворяющие пастельные тона. Из этих правильных, удобных, мертвых отношений, которые вдруг стали тюрьмой.
– Ты думаешь, великие книги, те, что остаются в веках, рождаются из графиков? Из дисциплины? Из разумного планирования? Их рождает боль, Соня! Отчаяние! Страсть! Безумие! Голод по абсолюту! Ты когда-нибудь чувствовала что-нибудь подобное? Или твои чувства тоже выверены по корректорской линейке, отредактированы и приведены к общему знаменателю?
Он видел, что ранил ее. Глубоко и точно, как скальпелем. Но остановиться не мог. Его собственная боль, клокочащая, черная, искала выхода, и единственным способом казалось причинить боль ей, сделать ее соучастницей этого крушения, утащить с собой на дно.
Софья смотрела на него, и ее взгляд постепенно терял тепло, человечность, становясь профессиональным, холодным, отстраненным. Взглядом редактора на безнадежную, запущенную рукопись, которую проще отправить в макулатуру, чем пытаться править.
– Я чувствую, что ты несчастен, – произнесла она ровно, без тени дрожи в голосе. – И я чувствую, что ты ищешь виноватого, потому что страшно признаться, что виноват только ты сам. И мне жаль, что ты выбрал мишенью меня. Я не твой враг, Саша. Я тот человек, который любит тебя. Но моя любовь – это не горючее для твоего костра. И я не собираюсь, слышишь, не собираюсь поджигать себя, чтобы тебе стало светлее и теплее. У этого костра уже никого не согреешь, им можно только сжечь все дотла.
Она повернулась и вышла из комнаты, тихо, но твердо прикрыв за собой дверь. Свет из коридора погас, и он снова остался один в кромешной тьме, наедине с мигающим курсором-часовым, с белизной экрана, которая теперь казалась еще белее, еще безжалостнее, как снежное поле после битвы, скрывающее все следы.
Его гнев, ярость, вся эта бутафорская буря схлынули, сменившись давящим, всепоглощающим, тошнотворным стыдом и одиночеством таким абсолютным, что он физически ощутил его вес на своих плечах. Она была права. Всем была права. И именно это, эта неоспоримая, кристальная правота, делала ее слова такими невыносимыми. Ее любовь была тихой, безопасной гаванью с теплыми причалами и предсказуемыми течениями. А он, изголодавшийся по шторму, по урагану, по библейскому потопу, кричал, что гавань – это клетка. Что скалы и подводные камни, что штормовой ветер – это и есть настоящая жизнь. Он жаждал потерять берег из виду, отправиться в свободное плавание по океану безумия и страсти, но при этом панически боялся утонуть, цеплялся за призрачный спасательный круг собственного тщеславия.
Он подошел к окну, распахнул его настежь. В лицо ударил холодный, влажный, осенний воздух, пахнущий мокрым асфальтом, прелыми листьями, бензином и бесконечностью. Город жил своей огромной, незнающей пауз жизнью. Миллионы огней, миллионы историй, миллионы больших и малых драм. Где-то там были страсти, преступления, взлеты и падения, любовь и ненависть – плоть от плоти которой должна была быть его книга. Та самая, что не писалась. А он стоял здесь, в своей стерильной, уютной, теплой клетке, и притворялся, что творит, имитируя муки творчества, разыгрывая дешевый спектакль для самого себя.
Он был писателем. Человеком, который по определению должен был проживать тысячу чужих жизней, чтобы рассказать об одной. А он не мог прожить и свою собственную. Он предавал ее. Свою музу. Свою любовь. Свою тихую гавань. Он предавал ее ради призрака великой книги, которая не желала рождаться, которая, он теперь с ужасом подозревал, возможно, никогда и не существовала где-либо, кроме как в его больном, раздувшемся от гордыни воображении.
За спиной все так же мигал курсор. Раз. Два. Раз. Два. Его личный стук сердца. Его счетчик.
Александр медленно, будто преодолевая невероятное сопротивление воздуха, вернулся к столу. Его пальцы, холодные и непослушные, легли на клавиши. Он понимал, что сейчас он не будет писать книгу. Книги больше не было. Он будет писать свою исповедь. Свой крик. Свое прощание. Письмо в никуда, в космическую пустоту.
«Я умираю, – написал он, и буквы на экране показались ему чужими, не его. – Я умираю, и самый ужас в том, что смерть эта тихая, удобная, теплая и совершенно незаметная для окружающих. Она похожа на обезболивающий укол, после которого перестаешь чувствовать не только боль, но и все остальное. Радость. Восторг. Ярость. Любовь. Я становлюсь призраком в самом расцвете лет. Призраком, который пьет ромашковый чай по графику и делает вид, что работает. Который смотрит в окно и не видит города, а видит лишь проекцию собственной пустоты. Кто-нибудь, услышьте меня. Кто-нибудь, позовите меня на пожар. На любой. Кто-нибудь, заставьте меня чувствовать снова. Даже если это будет невыносимо больно. Особенно если это будет невыносимо больно».
Он посмотрел на написанное. Это была не литература. Это был диагноз, вынесенный самому себе. Крик в пустоту, который не имел шанов на ответ.
Он зажал кнопку Backspace и стер это. Словно стирая сам факт своей слабости, уничтожая улику против себя. На экране не осталось ничего. Лишь мигающий курсор.
Белый прямоугольник сиял в темноте, победоносный и безразличный. Он был не просто пустой страницей. Он был зеркалом. И отражал он лишь пустоту, зияющую, абсолютную, вселенскую. И в этой пустоте тонул весь мир, и он вместе с ним.
Глава 2: Муза
Книжный магазин «Плерома» утопал в мягком, медовом свете бра и настольных ламп, отбрасывающем глубокие, бархатистые тени на стены, вздымающиеся до самого потолка, как каньоны из бумаги и клея. Здесь пахло священной смесью – пылью веков, приправленной дублением старых переплетов, едкой свежестью типографской краски с только что распакованных новинок и густым, пряным кофе с кардамоном, который варили в крошечной кофемашине за стойкой. Это был храмовый запах, запах его прежней, непоколебимой веры. Когда-то он, Александр, входил сюда с трепетом неофита, с почтительной жадностью проводя пальцами по ребрам корешков, ощущая под подушечками шершавую ткань, гладкую кожу, выпуклые буквы золотого тиснения, словно читая шрифт Брайля слепого провидца. Каждая книга была вратами в иную вселенную, и он, хранитель таких же врат, что вот-вот должны были родиться из первозданного хаоса в его душе, чувствовал себя здесь своим. Теперь он стоял у входа, словно опоздавший на собственную панихиду, вдыхая этот аромат чужих, уже состоявшихся миров. Его собственный мир не рождался. Он тихо умирал, и этот запах – запах жизней, которые он больше не мог сотворить, – был ему физически невыносим.
За высокими витражными окнами медленно сгущались осенние сумерки. Улицу затягивало сизым, промозглым маревом, в котором фонари расплывались в светящиеся ореолы, а редкие прохожие казались бесплотными тенями. Ветер гнал по асфальту вереницы рыжих листьев, сухих и хрустящих, словно обгоревшие страницы недописанной рукописи. Природа за стеклом доживала свой цикл, готовясь к зимней спячке, и это увядание, эта прощальная красота болезненно резонировала с его собственным состоянием.
Его выступление было назначено на восемь. Он наблюдал, как люди бесшумно подходили к аккуратным рядам стульев, расставленных перед импровизированной сценой – простым деревянным столиком с микрофоном и графином воды, неподвижным и безжизненным, как алтарь перед началом службы. Они усаживались с тем благоговейным, чуть заторможенным видом, каким обладают прихожане в ожидании проповеди. Доставая телефоны, чтобы отключить звук, слышался сдержанный шепот, похожий на шелест листвы перед грозой. Он ловил на себе взгляды – любопытные, ожидающие, голодные. Когда-то этот взгляд питал его, заставляя чувствовать себя шаманом, способным одним лишь словом вызвать дождь из метафор в засушливой пустыне обыденности. Теперь эти взгляды жгли его, как лучи прожекторов на допросе. Они жаждали откровения, хлеба духовного. А он нес в себе лишь великую, оглушительную, позорную тайну своей творческой пустоты.
Из скрытых динамиков тихо, почти подпорогово, лилась какая-то сложная джазовая композиция – томный саксофон переплетался с нервными пассажами фортепиано, создавая ощущение интеллектуальной, но бесстрастной утонченности. Идеальный саундтрек для благополучного литературного вечера. И абсолютно чуждый той яростной, клокочущей музыке, что когда-то звучала в его душе.
Софья была тут как тут, его идеальный менеджер и смотритель. Она безупречно играла свою роль – роль подруги известного (пока еще) писателя. Она поправляла несуществующую пылинку на его рукаве, говорила ободряющие, выверенные слова, улыбалась знакомым из издательства – легкий, профессиональный изгиб губ. Ее практичность, ее умение организовывать пространство и людей, в обычные дни вызывавшие у него приступ клаустрофобии, сегодня были кстати. Она была его живым щитом, буфером между ним и миром. И чем безупречнее она это делала, тем острее он чувствовал пропасть между ними. Она управляла его внешней, картонной жизнью, чтобы скрыть от всех, да и от себя самой, что внутри не осталось ничего, чем можно управлять – лишь выжженная, молчащая пустыня.
– Расслабься, – сказала она, касаясь его руки. Ее прикосновение было прохладным и легким. – Прочтешь отрывок из «Северного ветра». Его все обожают. Он – твоя визитная карточка. Ответишь на пару вопросов. Все пройдет идеально. Как всегда.
«Северный ветер». Повесть пятилетней давности. Его дебют. Его прорыв. Его пожизненный приговор. Именно за этот взрывчатый сплав боли и страсти, щедро приправленный молодой, необузданной метафорикой, его и полюбили. И именно этого, снова и снова, от него ждали. Того же самого. Только больше, сильнее, острее. Они хотели, чтобы он снова разрезал себе вены и позволил словам хлестать оттуда горячей, алой, живой струей. Но что делать, если вены опустошены? Если кровь давно превратилась в тот самый ромашковый чай – бледный, успокаивающий и абсолютно бесполезный?
Он вышел к микрофону под аккомпанемент аплодисментов. Звук был густым, плотным, физически ощутимым. Он давил на барабанные перепонки, на грудь, на живот. Он сел, откашлялся, посмотрел на море лиц. Лица расплывались, теряли черты, превращались в единое, дышащее, многоглазое существо – Публику. Ненасытного Молоха, вечно требующего свежей жертвы, новой главы, новой порции чужой души.
– Спасибо, что пришли, – его голос прозвучал чужим, заученным, плоским, как грампластинка. – Я прочту… отрывок.
Он открыл книгу на закладке – шелковой ленточке, символизирующей вечность. Текст был знаком до каждой запятой, до каждого вздоха между предложениями. Он начал читать. И поначалу это было просто механическое, бездушное воспроизведение звуков, ритуальное заклинание без веры. Но потом случилось нечто странное, мистическое. Его же собственные слова, написанные им когда-то в состоянии истового, почти бредовой одержимости, начали оживать, срываясь с языка. Они вибрировали в накуренном воздухе, обретая плоть и кровь, насыщаясь энергией внимания толпы. Он читал о боли потери, о слепой ярости предательства, о всепоглощающей страсти, сжигающей дотла все условности. Он читал о том, как главный герой кричит в лицо шторму, бросая вызов безучастным богам, как он готов сгореть дотла ярким факелом, но не тлеть в тепле уютного очага.
И по мере чтения Александр с растущим, леденящим ужасом осознавал, что не просто произносит текст. Он произносит приговор самому себе. Он читал о себе прежнем. О том юноше, который был способен чувствовать до колик, до спазмов, до исступления. Который не боялся боли, потому что видел в ней единственное честное топливо для творчества. Который верил, что настоящее искусство рождается в агонии, в судорогах души, а не в тишине уютного, хорошо оплачиваемого кабинета под аккомпанемент дедлайнов и редакторских правок.
Его голос срывался, в нем появились хриплые, подлинные, не сыгранные ноты. Он уже не выступал. Он исповедовался. Он каялся в том, что предал того юного, яростного, живого себя. Что променял священный огонь на тепленькое, безопасное, уютное пепелище. Закончив, он замолчал, тяжело дыша, чувствуя, как по спине струится холодный пот. В зале повисла гробовая, напряженная тишина, а затем взорвалась оглушительными, искренними аплодисментами. Они аплодировали призраку. Тому, кого он только что на мгновение воскресил своим чтением и тут же окончательно похоронил в глубине своей души.
Он не видел ее в толпе. Он почувствовал. Внезапный, ледяной укол в бок, резкий, почти животный поворот головы – и взгляд. Он встретился с ним из самой глубины зала, из-за спины последнего ряда, из царства теней. Два темных, бездонных озера, в которых, казалось, тонул весь свет комнаты. В них не было ни аплодисментов, ни восхищения, ни простого любопытства. В них был лишь холодный, безжалостный, хищный анализ.