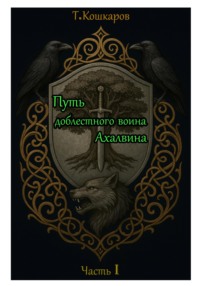Полная версия
Путь доблестного воина Ахалвина. Часть II

Тимур Кошкаров
Путь доблестного воина Ахалвина. Часть II
Глава 1
– Перун! Ты выйдешь к столу, аль снести снедь тебе сюда? – Женский голос, густой и звучный, как мед, прозвучал из-за двери в горницу.
Ахалвин, кого с легкой руки Иринга в этих краях нарекли новым, грозным именем Перун, отозвался:
– Выйду, хозяйка. Благодарствую, что позвала.
Он с усилием поднялся с жесткой лавки, опираясь на правую руку. Левая, все еще недвижимая и туго перетянутая чистым холстом, висела в перевязи. «Легкая рука Иринга», – мысленно усмехнулся он. Более зловещей иронии было трудно придумать. Одно имя маркграфа, подручного самого Аттилы, заставляло трепетать целые королевства, а он, Ахалвин-Сигурд-Перун, был его «милостью» спрятан в глухом славянском селе у самой границы известного мира.
Неделю назад его, полумертвого, с копейной раной под лопаткой, привезли сюда. Мокруша, молодая вдова-знахарка, приняла его и буквально поставила на ноги своими травами, заговорами и неусыпной заботой.
Он поправил на себе простую холщовую рубаху и вышел в общую горницу.
Дом был добротным, по местным меркам даже богатым – четыре комнаты, сходящиеся к общей печи-каменке, что жарко топилась в центре дома. Одну из комнат Мокруша отвела под больных да рожениц – его нынешнюю обитель. За столом уже никого не было; хозяйка, примостившись у печи, подала ему миску дымящейся овсяной каши с куском баранины – не скупилась, ведь гунны заплатили за его постой столько, что можно было кормить все село.
Закончив с трапезой и поблагодарив хозяйку, он вышел во двор. Отлеживать бока уже наскучило, тело, привыкшее к труду и битвам, требовало дела.
– Мокруша, а есть ли в хозяйстве работа для мужика? – спросил он, глядя на залитое утренним солнцем подворье.
– Как не быть работы, – отозвалась она, вынося ведро. – Тяжело вдове одной управиться. Вон, дрова не колоты лежат. Судислав мой мал еще, седьмой годок только пошел, да и когда ему – с утра до ночи овец пасет. А у меня и своих дел невпроворот.
– Неси топор, хозяйка. Буду кашу твою отрабатывать.
– Да ведь уплачено за все сполна! Где это видано, чтобы благородные господа дрова кололи… Да еще с раной!
– Неси, неси. Вторая-то рука здорова. А топор – он и мужику, и воину в руку ложится одинаково.
Мокруша, хмыкнув, но не переча, принесла тяжелый рабочий топорище. Перун упер чурбан в плаху, примерился и нанес один точный, мощный удар. Древесина с хрустом разлетелась на две идеальные половинки. Но вместе с ней – с коротким, жалким треском – лопнула и железная головица топора, отлетев в сторону.
– Хороший был топор, – с искренней грустью вздохнула Мокруша, подбирая обломки. – Сколько зим служил верой-правдой, не ломался…
Перун смутился, но тут же выпрямился.
– Не кручинься, дело поправимое. Скажи, где у вас кузница?
– Известно где. Вон, за селом, у реки.
Взяв обломки, он направился к указанному месту.
Кузница Сварослава стояла на отшибе, у самой воды. Возле низкого сруба дымился горн, звенел молот. Сам кузнец, могучий детина с окладистой бородой и умными, хитроватыми глазами, отер пот со лба.
– Сварог в помощь, мастер, – поздоровался Перун, показывая обломки топора.
Кузнец окинул его опытным взглядом, оценивая и рану, и осанку.
– И тебе не хворать, чужестранец. Видать, топор наш слабоват оказался для твоей богатырской длани. Починить – починю. Иль новый продать могу. Только учти – лучше этого он не будет.
– А почему так? – спросил Перун, осматриваясь вокруг.
– Руда наша, мил-человек, не в пример привозной, крепости не дает, – вздохнул Сварослав. – Из чего делаем, то и получается. Бей снова со всей дури – и новый сломается. Оружие мы из своей руды и не делаем – пропадешь с таким в бою. Для него железо покупаем, дорогое. А на мужицкий топор – куда уж… Так что учись сноровку иметь, с учетом здешних порядков.
Пока кузнец разглагольствовал, Перун внимательно изучал кузницу: устройство низкого горна, кучки буроватой местной руды, готовые изделия – в основном, сохи, серпы, простые ножи. Он вышел во двор, оглядел запасы угля, вернулся.
– Как величать тебя, покоритель огня и металла? – перебил он наконец поток слов.
– Сварославом кличут. И отец мой Сварога славил в сей кузне, и дед, и деда дед… Так у нас в роду…
– Добро, – резко, но без грубости, остановил его Перун. – А если я скажу, Сварослав, что мы с тобой будем из сей руды делать такие клинки, что за ними купцы из самого Царьграда в очередь станут, – возьмешь меня в дело?
Кузнец замолчал, уставившись на него во все глаза. Его болтливость куда-то испарилась, уступив место жадному, профессиональному интересу.
– Ты… ты чьих будешь, мил-человек? – наконец выдохнул он. – По виду ратник, а берешься кузнечному делу меня, потомственного кузнеца, учить.
– Я учился много зим у кузнеца Регина, что перековал меч Грам, – сказал Перун тихо, но так, что каждое слово легло, как молот по наковальне. – И сделал его крепче, чем был он выкован самим Одином. Коли тебе сие о чем-то говорит.
Сварослав замер, и в глазах его мелькнуло суеверное почтение, смешанное с недоверием.
– Ладно, ладно… Мы тут не только лаптем щи хлебаем. Коё-что слыхали про дела давние. Грам, сказывают, из металла небесного кован… У нас тоже камни с неба порой падают, да не каждый день… Вот, к примеру, случай был…
– Стой! – Перун поднял руку. – Решай. Хочешь ли научиться ковать лучшие мечи в мире или нет?
– Да какой же кузнец сего не желает! – воскликнул Сварослав, и в голосе его прозвучала искренняя страсть.
– Кузню твою ломать не станем, сперва новую смастерим. Вот тут, под навесом, горн поставим, иной конструкции. Только помощника мне найди. Сам видишь – однорукий я пока.
– Сам и буду! – живо отозвался кузнец. – Секреты от чужих глаз подальше держать надо. Народ у нас ушлый, проведают – мигом переняют. Говори, что надобно, я все мигом справлю.
– Записывать станешь? Иль заучивать?
– Запомню! – Сварослав ткнул себя пальцем в лоб. – У меня тут – все цепко.
И Перун стал диктовать. Список был длинен и странен: не только глина особой жирности, песок речной, кожи буйволовые для мехов, но и камни диковинные, и даже древесина определенных пород.
Сварослав, закатывая глаза, старательно загибал пальцы, бормоча названия под нос.
– Топор вот тебе, новый, – сказал на прощание кузнец, протягивая добротное, хоть и простое изделие. – Лучший, что есть. Не сыщешь крепче в наших краях. Денег не надо. Сочтемся еще. Приходи через три дня. Все, что по списку, будет. Уж больно интересный ты человек… Вот, помнится, случай у нас еще…
– В другой раз, – поспешно прервал его Перун, уже отступая к выходу. – Мне спешить, а то хозяйка беспокоиться станет.
И он быстрее отправился прочь от кузнеца, на ходу уже пожалев, что связался с эдаким болтуном. Но дело было задумано. И в этом деле, в жарком пламени нового горна и тайне металла, он видел свое единственное спасение – от прошлого, от боли, от самого себя. Здесь, у наковальни, он снова мог бы стать кем-то. Пусть не Сигурдом, драконоборцем. Пусть даже не Перуном, громовержцем. А просто – Мастером. И это пока что было единственным, за что он мог ухватиться в этом новом, жестоком мире.
Глава 2
Стояла пора, когда Даждьбог уже отводил солнце к югу, уступая место на небе осенним тучам, а по утрам на поблекшую траву ложился хрустальный иней, словно седая борода старика-Велеса. Воздух в кузнице, однако, был всегда летним, раскаленным и густым, пахнущим железным потом земли и горьким дымом жертвенного костра. Здесь, на окраине славянского селения, спрятанного в глубине лесов, творилось нечто невиданное.
Горн, дитя ума и силы пришлого воина именем Перун, пылал, как глаз разгневанного божества. Вылепленный из местной глины, замешанной на кварцевом песке, он стойко переносил ярость огня, что бушевала в его чреве. Два могучих меха из бычьей кожи, натянутых на дубовую раму, вдували ветер в его нутро могучими выдохами, заставляя угли пылать ослепительной белизны жаром. Это был не просто огонь. Это был дух плавки, сам дух войны и созидания, вызванный волей человека.
В этом пекле, под присмотром мастера Сварослава, руда, темная и непримечательная, перерождалась. Она текла, алая, как кровь из свежей раны на теле великана, послушная и живая. Подобно тому, как нечистоты всплывают на поверхность чистой воды, так и шлак, темная порода-обманка, отделялся от благородного металла, всплывал радужной пленкой, чтобы быть сметенным железным прутом кузнеца. Металл, рожденный в этом аду, был чист и однороден, лишенный изъянов и скрытых слабостей. Был готов принять любую форму, какую пожелает ему придать рука творца.
Сам творец, нареченный Перуном, стоял у наковальни. Его тело могучего сложения воина с берегов Рейна, было обнажено по пояс и блестело от пота, смешанного с угольной пылью. Мышцы на спине под левой лопаткой, некогда пронзенные вражеским клинком, играли при каждом движении, и от былой раны остался лишь багровый шрам – напоминание о прошлой жизни, о предательстве, о смерти, которую он избежал. Руку знахарка Мокруша лечила травами и заговорами. Она обрела прежнюю силу, и даже большую, ибо теперь ею правил не только воинский гнев, но и терпеливая мудрость мастера.
Уже скоро год миновал с той поры, как он, полумертвый, был привезен сюда степными всадниками, говорившими на странном наречии – людьми Аттилы-Грозы Мира. Они вручили его заботам молчаливой вдовы, шепнув лишь одно:
– Это Перун. Он должен жить.
И он жил. Сперва как тень, призрак в горнице бревенчатой избы, потом как выздоравливающий зверь, а ныне – как один из столпов этой маленькой, затерянной в лесах общины.
– Поддай, Сварослав, не скупись! – голос Перуна гремел под сводами кузницы, заглушая шипение углей. – Пусть дух огня увидит свою силу в нашем дыхании!
Молот в его руке —тяжелый, продубленный потом и огнем кузнечный боец – опускался на заготовку с ювелирной точностью. Каждый удар был стихом в поэме о рождении стали. И в этой поэме были свои тайные строки, открытые Перуном.
После первичной ковки раскаленный докрасна клинок обкладывали древесным углем и вновь отправляли в горн. Уголь, словно колдовское зелье, проникал в тело железа, насыщая его своей крепостью. Металл становился втрое прочнее, его лезвие могло рассекать кольчугу и не тупиться о кость.
Первым творением, рожденным в новом горне, стал не меч и не секира, а простой топор. Но какой! Перун выковал его для Мокруши, в благодарность за ее заботу. Лезвие его блестело холодной синевой, а острота была такова, что им можно было бриться. Старый кузнец Сварослав, взяв его в руки, лишь свистнул сквозь редкие зубы, впервые не сумев подобрать слова.
Перун же за полдня переколол все дрова во дворе знахарки, не чувствуя ни малейшей усталости.
Сама Мокруша, прячась за занавеской слюдяного окошка, украдкой наблюдала не за топором, а за тем, кто его держал. Ее молодое сердце, истосковавшееся по мужской ласке после смерти мужа, сжималось от сладкой тоски. Она видела, как играют мускулы на его спине, как свет пламени отражается в его глазах, цвета рейнского шторма. В голову лезли мысли, от которых щеки пылали жарче горна. «Ох, баба, опомнись, – шептала она себе, – не ровен час, он по всему князь, а ты… ты лесная знахарка». Но сердце не слушалось разума.
А Перун, будто не замечая ее смущенных взглядов, не думал останавливаться. Его ум, отточенный в военных походах и дворцовых интригах, теперь был обращен на мирный труд. Он выковал плуг с сошником из своего «чудо-железа», которому не страшны были ни камни, ни сплетенные корни. Приладил к нему колеса – диковинка, о которой здесь лишь слыхивали в сказках. Теперь даже малой Судислав, сынок Мокруши, мог управляться с пахотой.
А уж борона, сделанная руками Перуна, и вовсе вызвала в селе пересуды. Рыхлила землю так, словно ее касалась длань самого Даждьбога, суля невиданные урожаи.
Вместе с Судиславом они распахали все окрестные луга, что лежали в запустении, и засеяли пшеницей. Помогали и соседям – не за спасибо, а за долю в урожае или приплод скотины.
Потом в руках Перуна родилась пила – и пошла новая волна чудес. Расширили кузницу, выстроили новую, просторную овчарню для Мокруши. Теперь она могла оставлять в зиму больше овец, ибо косой из новой стали Перун выкашивал столько сена, что и пятеро здоровых мужиков не управились бы.
Не могла нарадоваться Мокруша на своего постояльца. И когда он, окрепнув окончательно, заговорил о том, чтобы перебраться жить к Сварославу в кузницу и не стеснять ее более, она воспротивилась с яростью медведицы.
– Да что ты, родимый! – всплеснула она руками. – Какой там кузница! Холодно, неуютно, есть некому сготовить. Тебе особый присмотр нужен, кормежка, чистота! А ну как лихоманка, не ровен час, одолеет? Глазом моргнуть не успеешь!
Перун, видавший виды воин, лишь улыбнулся ее материнской, а может, и не только материнской, заботе. Так и остался жить в ее опрятной избе. В селе уже и пацана ее, Судислава, в шутку да и всерьез, стали звать Перуничем. Может, зазря, а может, и нет.
Вскоре к кузнице потянулась вереница людей. Не было отбоя от заказчиков. Каждый хотел заполучить в хозяйство диковинный прочный инструмент, что сулил избавление от вечной нужды. Кто мог, платил серебром, кто не имел – сулил рассчитаться осенью зерном, молодой овцой, тулупом. Нашлись и такие, что, окинув могучее тело кузнеца оценивающим взглядом, предлагали в жены своих дочерей – дескать, и кузнец Сварослав вдов, и Перун браком не обзавелся, хоть и живет под одной кровей со знахаркой, но все ж неженат.
Не всем нравилось это новое поветрие. Как тень от кромеющего леса, ползло по селу недовольство. Расширение пашен означало ущемление вольных пастбищ. Земли вокруг села теперь делились, каждая полоска была за кем-то записана. Сокращались охотничьи угодья, вырубались под новые нивы лесные делянки. Старая гвардия охотников и скотоводов, чьи отцы и деды жили по заветам леса, ворчала, глядя на то, как пашня пожирает их мир.
– Коли так пойдет и дальше, – ворчал у костра старый Велеслав, известный своим нравом и удачливостью на звериной тропе, – скоро зверю и птице негде будет укрыться. Лес кормил нас испокон веков, а теперь его гонят железной сохой. Не к добру это. Не к добру.
Велеслав был свекром Мокруши. Выше других богов он ставил Велеса, а Мокрушино почитание Мокоши всегда считал бабской блажью.
И однажды осенним вечером, когда солнце скрылось за лесом, окрасив небо в багряные тона, словно предвещая недоброе, случилось то, чего опасались.
В тот день работа в кузнице спорилась. Молот пел свою боевую песню, железо покорно гнулось, принимая нужные формы. Перун, увлеченный, задержался допоздна, желая воспользоваться приливом сил.
Усталый, но довольный, с чувством праведно исполненного долга, он направился к избе Мокруши. На душе светло и спокойно рождалось то редкое чувство дома, которого он был лишен много лет.
– Ну, Мокрушенька, принимай странника! – весело возвестил он, переступая порог двора. – Голоден я ныне, как Тори Собачья Лапа, готов сожрать и твое варево, и горшок, и тебя за компанию!
Обычно Тори, именем которого он пошутил, в это время уже дремал на своем месте у завалинки, лишь изредка повиливая хвостом. Но сейчас Тори не спал. Он метался по двору, странно поскуливая, то подбегая к воротам, то возвращаясь назад, будто не в силах решиться на что-то. Его спина была напряжена, уши прижаты.
Это насторожило Перуна. Внезапная тишина, нарушаемая лишь беспокойным повизгиванием пса, показалась ему зловещей. Дверь избы распахнулась, и на пороге возникла Мокруша. Лицо ее было бледным, глаза расширены от страха. Она не улыбнулась ему, не сделала обычного ласкового упрека за позднее возвращение.
– Судислава нет! – выпалила она, без предисловий, и голос ее дрожал. – Как погнал с утра овец на луг, так и пропал! Ни слуху, ни духу! Уже и вечерняя зоря на небе, а его все нет!
Сердце Перуна сжалось. Судислав, хоть и не воин, был парнем ответственным, легкомысленно в лесу не пропадал.
– Не тревожься, Мокрушенька, – попытался он успокоить ее, но сам почувствовал, как по спине пробежал холодок, а на душе заскребли кошки. – Наверное, отара забрела подальше, ищет. Мы с Тори его вмиг сыщем.
Он резко развернулся, зашагал в избу. Схватил с гвоздя свой топор – тот самый, выкованный здесь. Рукоять уже легла в руку как влитая. Заткнул за пояс. Медлить было нельзя. Сумерки сгущались быстро, и безлунная ночь кромешную тьму.
– Идем, Тори! – скомандовал он псу.
Пес рванулся к воротам, но вдруг остановился, оглянулся на хозяина и снова заскулил, будто прося о чем-то. Перуна понял.
– Ты прав, Тори! – голос его стал твердым, командирским, каким он был в прежней жизни, отдавая приказы дружине. Пес замер. – Сдается мне, дело нечисто. Судислав не барышня, просто так пропадать не станет. Найди Бьярки и Фроди! Встречаемся на лугу у реки. Если парня там не найдем, будем организовывать поиски всерьез.
Тори, поняв каждое слово, вильнул хвостом и стремглав рванул прочь, исчезнув в сгущающихся сумерках.
Перун, не теряя ни секунды, зашагал по знакомой тропе, что вела к речному лугу. Он двигался легко, несмотря на усталость, его шаг был мягок и бесшумен – шаг охотника и воина. Глаза, привыкшие к темноте германских лесов, впитывали скудный свет угасающего неба, выхватывая из мрака знакомые ориентиры: кривую березу, валун, похожий на спящего медведя, старую волчью яму.
Вот и луг. Поле перед ним было пустынно и тихо. Слишком тихо. Не слышно блеяния овец, не было видно силуэта пастуха. Лишь темная лента реки тускло блестела внизу, да ветер шелестел сухим тростником. Сердце Перуна упало. Никого. Холодная пустота.
Но нет… Там, на краю поля, у кромки леса, что-то зашевелилось. Тени отделились от стволов вековых сосен. Сначала одна, потом другая, третья. Их было много. И в полумраке засветились тусклые, зеленоватые огоньки. Холодные, голодные, лишенные всякой мысли, кроме одной – убивать.
Волки.
Стая. Большая и организованная. Они вышли на открытое место без страха, молча, окружая его. Перун почувствовал знакомый привкус азарта на языке – горький и сладкий одновременно. Привкус близкой смерти и ярости.
Он медленно, не делая резких движений, вынул топор из-за пояса. Рукоять плотно легла в ладонь. Отступил на несколько шагов, чувствуя за спиной мощный ствол старого дуба. Спиной к дереву. Лицом к врагу. Так он стоял несчетное количество раз.
Первый волк, серый великан с поседевшей мордой, сделал выпад. Не прыжок, а быстрый, разведывательный бросок. Перун даже не взмахнул топором, лишь выставил его вперед, и зверь отскочил. Это была лишь проба. Следующий прыжок был настоящим. С рычанием, отпружинив мощными лапами, другой волк взмыл в воздух, целясь ему в горло.
Топор Перуна свистнул, описывая короткую смертельную дугу. Удар пришелся точно между глаз, раздался тошнотворный хруст ломающегося черепа. Вой оборвался, превратившись в предсмертный хрип. Но прежде чем Перун успел выдернуть клинок, второй зверь вцепился ему в ногу, пытаясь острыми, как бритва, клыками порвать сухожилия. Боль, острая и жгучая, пронзила тело. Перун рухнул на колено и с коротким выдохом ударил снизу, в основание волчьей шеи. Топор вошел глубоко, и хватка ослабла.
Но их было слишком много. Они набрасывались сразу, с разных сторон, пользуясь его временной уязвимостью. Клыки сверкали в темноте, рвали его одежду, впивались в плечо, в предплечье. Перун чувствовал на себе их горячее, зловонное дыхание. Он отбивался, как от самой тьмы. Топор уже не пел победную песню – он стонал, вонзаясь в плоть, хрипел, рубя кости. Каждый удар отнимал силы. Кровь заливала глаза, смешиваясь с потом. Он чувствовал, что следующая атака будет последней. Еще один прыжок – и он падет.
И в этот миг небо взорвалось.
Грянул гром такой нечеловеческой силы, что задрожала земля под ногами. Следом ударила молния, ослепительно-белая, расколовшая небо. Она ударила в вершину сосны на опушке, и дерево вспыхнуло, как гигантский факел, осветив поле боя мертвенным, колеблющимся светом. Перун увидел: волки замерли, ошеломленные, их спины дымились от близкого разряда. Следующая молния, еще ближе, ударила в землю посреди стаи. Один из волков, задетый огненным хлыстом, взвыл и бросился прочь, его пасть дымилась, а шерсть тлела.
Гроза, ярая и внезапная, как гнев бога, пришла ему на помощь. В душе что-то отозвалось на этот разгул стихии. Он поднял окровавленное лицо к небу и крикнул, как кричал в бою, призывая своих старых богов, но имя, сорвавшееся с его губ, было другим:
– Перун!
И топор в его руке с новой силой вонзился в горло очередной твари. Еще удар. Еще. Молнии падали вокруг, как молоты разгневанного титана, освещая на мгновение оскаленные пасти, сверкающие глаза, брызги крови на траве. Казалось, сама природа встала на его сторону.
Но их было слишком много. Силы покидали Перуна. Нога подкосилась. Топор, выскользнув из ослабевших, залитых кровью пальцев, с глухим стуком упал на землю. Он осел у подножия дуба, чувствуя, как холодный ствол давит на спину. Волки, оправившись от первого испуга, снова сомкнули кольцо. Их рык уже не был слышен в оглушительном грохоте грома. Он увидел, как к нему летит разинутая пасть, полная желтых клыков, пахнущая смертью.
«Ну что ж, – промелькнула усталая, почти равнодушная мысль. – Хоть одного, последнего… Кому еще успею башку оторвать?»
И вдруг – новый звук. Не громовой раскат, а низкий, яростный, полный дикой мощи рев. Из чащобы, сбоку, вырвалась огромная, черная тень. Медведь-Бьярки. Его лапа с когтями – кинжалами, сбила с ног волка, летевшего на Перуна, и отшвырнула в сторону, как щепку.
За медведем, ломая подлесок, выскочил на поляну исполинский лось. Рога Фроди, огромные и ветвистые, подняли на себя двух волков и швырнули их прочь с силой, которой не мог бы сравниться ни один копейщик. А рядом, с яростным оскалом, на вожака стаи набросился… Тори. Он вцепился в горло серого гиганта, и повис на нем, не разжимая челюстей.
Уголек надежды, тлевший в груди Перуна, теперь разгорелся в яростное пламя. На губах его появилась знакомая ухмылка воина, видящего подмогу.
– А вот и родственнички подоспели! – хрипло выкрикнул он, и его рука с новой силой сжала рукоять топора.
Волки пришли в смятение. Их стая дрогнула. Медведь, казалось, обрел новую цель в жизни – разорвать на куски каждого серого разбойника. Лось, могучий и неуклюжий, ломал хребты и ребра мощными ударами копыт. Тори довершал кровавый пир.
Перун, собрав последние силы, поднялся и ударил в спину последнего волка, пытавшегося утащить его топор.
Стая обратилась в бегство. Их жалобный, побежденный вой потонул в непрекращающемся грохоте грома.
Перун устало рухнул на колени. Он тяжело дышал, все его тело ныло от боли и усталости. Дождь хлестал ему в лицо, смешиваясь с кровью и смывая ее потоком.
Битва была выиграна.
Гроза так же внезапно стихла, как и началась. Над рекой повисла легкая дымка, сквозь рваные тучи равнодушно смотрели звезды.
На опушке леса, у кромки света и тени, стояли трое. Огромный бурый медведь – Бьярки, исполинский лесной лось – Фроди и пес Тори Собачья Лапа. Они стояли неподвижно, смотря на него. Снова боги собрали их вместе. Значит бои впереди.
Перун огляделся. На опустевшем, изрытом копытами и лапами поле, среди тел мертвых волков он был жив. Он был спасен. Но ни мальчика, ни овец тут не было. Лишь тихий шепот дождя да холодный ветер с реки. И тревога, холодная и тяжелая, снова сжала его сердце. Битва была выиграна, но война, похоже, только начиналась.
Глава 3
Ночь, последовавшая за уходом Перуна, была для Мокруши долгой и мучительной. Она не сомкнула глаз, прислушиваясь к каждому шороху за стенами избы, к каждому порыву ветра, надеясь различить в нем шаги или лай пса. Очаг потух, и холодное предутреннее беспокойство заползало в душу, леденило кровь. Где он? Где ее мальчик? В ушах стоял грохот страшной ночной грозы. Ей чудилось, что это не стихии бушуют, а сражается он, ее могучий постоялец, а она не может ничем помочь.