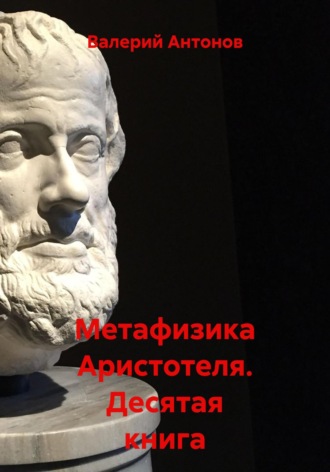
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Десятая книга
Д.В. Бугай (с. 149): Бугай подчеркивает, что для «отличия» требуется общее основание для сравнения (то самое «тождественное»). Чтобы сказать, что яблоко и мяч отличаются по цвету, они оба должны иметь цвет (быть тождественными в этом отношении). Это фундаментальный принцип всякого сравнения и познания.
9. Виды отличия: по роду и по видуТекст Аристотеля: «Это тождественное есть род или вид: все, что различается, различается либо по роду, либо по виду, по роду – то, что не имеет общей субстанции и не переходит друг в друга путем превращения, например, то, что относится к различным категориям; по виду – то, что принадлежит к одному роду. Здесь род – это то, в чем две различные вещи тождественны по своей сущности. Противоположность – это тоже различие, а противоположность – определенное различие.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 635): Лосев отмечает, что здесь Аристотель подводит итог всей своей классификации сущего. Высший вид различия – родовое (например, цвет и звук принадлежат к разным категориям и не имеют общей сущности). Низший – видовое (в пределах одного рода, например, разные цвета). Противоположности (белое/черное) – это предельный случай видового различия внутри одного рода («цвет»).
W.D. Ross (vol. II, p. 475): Росс уточняет, что различие по роду (διαφορὰ κατὰ γένος) для Аристотеля является самым сильным: вещи, относящиеся к разным категориям (например, качество и количество), «не имеют общей материи» и не могут превращаться друг в друга. Это основание для аристотелевской критики попыток сведения всего сущего к одной субстанции (как у досократиков).
В.П. Лега (с. 418): Лега резюмирует: таким образом, Аристотель завершает построение сложной иерархической системы понятий (Тождественное/Подобное/Равное – Иное/Отличное/Неравное), которая проистекает из фундаментальной оппозиции Единого и Многого и отражает структуру самого мира.
Глава 4. Противоположность как полное различие. Противоположность и лишение.
1. Определение наибольшего различия как противоположности.Текст Аристотеля: «Поскольку различные вещи могут отличаться друг от друга в большей или меньшей степени, существует и наибольшее различие, которое я называю контрастом. То, что это наибольшее различие, можно понять с помощью индукции. Ибо то, что различается по роду, не сливается друг с другом, но еще более удалено друг от друга и несовместимо, тогда как в случае с тем, что различается по виду, происходит взаимное слияние противоположного как конечного с другим. Расстояние конечного, однако, самое большое, следовательно, и расстояние противоположного.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 636): Лосев подчеркивает, что Аристотель вводит количественную меру в качественное понятие различия. Противоположность (ἐναντίωσις) определяется не просто как различие, а как наибольшее (μεγίστη) и полное (τελεία) различие внутри одного рода. Это «контраст» (ἀντίθεσις). Примеры из предыдущей главы (белое/черное) служат индуктивным основанием для этого вывода.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 476): Росс обращает внимание на аргумент о родовом и видовом различии. Вещи, различные по роду (напр., цвет и звук), не имеют общей меры для сравнения, поэтому о них нельзя сказать, что они «противоположны». Противоположности требуют общего рода, внутри которого они являются максимально удаленными друг от друга «концами» (ἔσχατα).
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 419): Лега поясняет метафору «взаимного слияния»: противоположности, будучи крайними точками одного континуума (например, белое и черное на шкале цветов), определяют собой весь этот род и предполагают друг друга. Их различие является наиболее явным и «отчетливым».
2. Критерии завершенности и совершенства различия.Текст Аристотеля: «Но теперь величайшее в каждом виде завершено: величайшее – это то, что нельзя превзойти, а завершенное – то, за которым уже ничего нельзя найти: ведь завершенное различие достигло своего конца, так же как и остальное называется завершенным, когда оно достигло своего конца. Но за пределами конца нет ничего, потому что это конечное во всем и охватывает все. Поэтому ничто не выходит за пределы конца, и то, что совершенно, не нуждается в увеличении. Отсюда ясно, что противоположность – это полное различие: и действительно, поскольку противоположность выражается в нескольких значениях, полное всегда соответствует ей в том смысле, в каком она противоположна.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 637): Лосев акцентирует связь понятий «величайшее» (μέγιστον), «конечное» (ἔσχατον) и «завершенное» (τέλειον). Противоположность есть телеологически завершенное, законченное различие, достигшее своего предела (τέλος). Это онтологическое, а не просто логическое определение.
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 482): Бониц отмечает, что Аристотель применяет здесь общее определение совершенства (законченности, полноты), данное в V книге (Δ 16), к частному случаю различия. Полное различие – это такое, которое исчерпывает все возможности рода.
Д.В. Бугай ("Аристотель и традиционная логика", с. 150): Бугай видит здесь формально-логический критерий: если в роде есть два вида различия A и B, и A больше B, то B не является полным. Полное различие – это максимум, который нельзя превзойти.
3. Количественное ограничение противоположности: два члена.Текст Аристотеля: «А раз так, то ясно, что одно не может быть противопоставлено более чем одному, ибо ни одно не может быть более крайним, чем крайнее, ни более чем две крайние точки на одном расстоянии. В общем, если противоположность есть различие, а различие имеет место между двумя вещами, то это относится и к полному различию.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 477): Росс поясняет, что этот вывод следует из геометрической аналогии. На прямой линии или окружности можно провести только два диаметрально противоположных пункта. Третий не может быть в равной степени противоположен первому. Этот аргумент из «Физики» и «Категорий» подтверждает, что противоположность всегда бинарна.
В.П. Лега (с. 420): Лега добавляет, что это следствие самого определения противоположности как полного различия. Если бы был третий член, столь же отличный, то различие между первым и вторым не было бы полным, так как третий мог бы отличаться от них еще больше. Таким образом, бинарность вытекает из полноты.
4. Дополнительные характеристики противоположностиТекст Аристотеля: «Согласно этому, остальные определения, данные относительно противоположности, также должны быть верными. Ибо совершенное различие – самое отчетливое… Также противоположно то, что наиболее отчетливо в одной и той же вещи, восприимчивой к ней: ибо противоположное имеет одну и ту же материю. Кроме того, противоположно то, что наиболее отчетливо в одном и том же факультете: ведь одна наука включает в себя один род, причем наиболее полное различие является наибольшим.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 638): Лосев комментирует, что Аристотель суммирует признаки противоположности, разбросанные по другим works («Категории», «Физика»): 1) Ясность и отчетливость. 2) Общая материя (напр., тело для здоровья и болезни). 3) Принадлежность к одному роду и, следовательно, к одной науке (напр., медицина изучает и здоровье, и болезнь).
J. Beere ("Doing and Being: An Interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta", p. 320): Бир подчеркивает важность общего субстрата (материи). Противоположности – это не просто логические противоположности, а реальные состояния одной и той же вещи, которые могут сменять друг друга в процессе изменения.
5. Первичный вид противоположности: обладание и лишение.Текст Аристотеля: «Противоположность в самом изначальном смысле этого слова есть поведение и лишение – не лишение без большего, однако (ибо этот термин употребляется в нескольких смыслах), но полное лишение. Другая противоположность вытекает из только что упомянутой и называется так потому, что имеет ту или иную противоположность, или действует, или способно действовать, или поглощает, или отталкивает.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 478): Росс утверждает, что здесь Аристотель указывает на онтологически первичный вид противоположности – наличие (ἕξις) и лишение (στέρησις). Это наиболее фундаментально, так как любое изменение можно описать как приобретение формы (наличие) и утрату другой формы или как переход из состояния лишения в состояние наличия.
А.Ф. Лосев (с. 639): Лосев видит здесь ядро аристотелевской диалектики. Все остальные виды противоположностей (горячее/холодное, доброе/злое) являются частными случаями или следствиями этой основной пары, которая коренится в соотношении формы и материи.
6. Соотношение противоречия, лишения и противоположности.Текст Аристотеля: «Итак, если противоречие, лишение, противоположность и относительное противоположны друг другу, а из них противоречие – первое, если к тому же между членами противоречия нет посредника, но есть между противоположностями, то ясно, что противоречие и противоположность не тождественны; с другой стороны, лишение – это определенное противоречие. Ибо то, что либо вообще не способно иметь что-либо, либо не имеет того, что должно иметь по природе, есть лишенное, либо вообще, либо определенным образом.»
Комментарий:
H. Bonitz (S. 483): Бониц проводит четкое различие: противоречие (ἀντίφασις) – это чисто логическое отношение (А и не-А), не допускающее середины. Противоположность (ἐναντίωσις) – онтологическое отношение внутри рода, допускающее промежуточные состояния (напр., между белым и черным есть серое). Лишение (στέρησις) – это вид противоречия, но applied к чему-то конкретному (субстрату), что по природе должно иметь форму, но не имеет.
В.П. Лега (с. 421): Лега поясняет определение лишения: слепота – это лишение зрения у существа, которое по природе должно видеть. А вот камень не «лишен» зрения, так как он к нему не способен. Лишение всегда предполагает норму и потенцию.
7. Лишение как вид противоречия с субстратом.Текст Аристотеля: «Лишение есть, таким образом, определенное противоречие, а именно определенная неспособность, или неспособность, которая также связана с рецептивным субстратом. Поэтому нет середины между членами противоречия, но есть между двумя сторонами лишения: например, все равно или не равно, но не все равно или неравно, а о равенстве и неравенстве можно говорить только в том, что восприимчиво к равному.»
Комментарий:
G. E. L. Owen ("Logic, Science and Dialectic", p. 205): Оуэн анализирует этот сложный пассаж. Лишение – это не просто логическое отрицание (не-А), а «определенное противоречие» (ἀντίφασίς τις), то есть отрицание, отнесенное к определенному роду сущего и к его природным возможностям. Поэтому для лишения возможна середина (состояние, которое не есть ни наличие, ни полное лишение), в то время для чистого противоречия – нет.
Д.В. Бугай (с. 151): Бугай иллюстрирует примером: противоречие – «равно или не-равно». Лишение – «равно или неравно» (где «неравно» implies лишение равенства у величины, которая может быть равной). В первом случае середина исключена, во втором – есть промежуточные состояния («почти равно»).
8. Всякая противоположность есть лишение, но не наоборот.Текст Аристотеля: «Если же в материи все происходит из противоположности, либо из формы и поведения формы, либо из лишения формы и поведения формы, то из этого следует, что всякая оппозиция есть определенное лишение, но едва ли всякое лишение есть оппозиция. И это потому, что лишенное может быть лишено разными способами: противостоящим же является то внешнее, из чего проистекают изменения.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 479): Росс объясняет этот тезис: поскольку любая противоположность может быть описана как наличие одной формы и лишение другой (напр., здоровье – наличие своей формы, лишение формы болезни), то всякая противоположность включает в себя момент лишения. Но не всякое лишение является противоположностью, потому что лишение может быть частичным, неполным, не достигающим степени контраста.
А.Ф. Лосев (с. 640): Лосев резюмирует: противоположность – это самый сильный, полный вид лишения. Более слабые виды лишения (напр., «не совсем здоровый») не образуют противоположности с наличием («здоровый»).
9. Индуктивное подтверждение связи противоположности и лишения.Текст Аристотеля: «Это также следует из индукции, поскольку каждая оппозиция содержит лишение одного члена в противоположном, хотя и не везде одинаковым образом: так, например, неравенство есть лишение равенства, несходство – сходства, дурность – добродетели.»
Комментарий:
В.П. Лега (с. 422): Лега отмечает, что Аристотель подтверждает свой сложный теоретический вывод простым индуктивным обобщением. Во всех стандартных примерах противоположностей один член явно трактуется как позитивный (форма, наличие), а другой – как его отсутствие (лишение).
10. Условия наличия или отсутствия середины между противоположностями.Текст Аристотеля: «Здесь имеет место уже отмеченное выше различие: одно противоположно, когда оно лишено вообще, другое – когда оно лишено в определенное время или в определенной части, например, в определенном возрасте или в важной части или вообще. Следовательно, в одном есть середина, как, например, в человеке, который не является ни хорошим, ни плохим, а в другом ее нет, но что-то обязательно либо четное, либо нечетное. Кроме того, одно имеет определенный субстрат, а другое – нет.»
Комментарий:
H. Bonitz (S. 484): Бониц систематизирует условия: 1) Наличие середины зависит от того, является ли лишение полным и тотальным (чет/нечет) или допускает степени (добродетель/порок). 2) Зависит от субстрата: в математических объектах, лишенных материи, противоположности часто исключают середину; в физических вещах – допускают.
J. Beere (p. 322): Бир подчеркивает, что это различие имеет crucial importance для этики Аристотеля. Существование середины между противоположностями (добродетель как середина между пороками) основано на том, что лишение здесь не является полным и тотальным.
11. Итог: связь противоположности с первичными началами.Текст Аристотеля: «Таким образом, очевидно, что одним из членов противоречия всегда является лишение. Но достаточно, если это относится только к высшим противоположностям и родам противоположностей, например, к единому и многому: ведь остальные противоположности могут быть прослежены до них.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 641): Лосев завершает анализ: Аристотель сводит все многообразие противоположностей к самым общим – Единому и Многому, которые являются корнем всех остальных. Поскольку Многое можно трактовать как лишение единства, то фундаментальная оппозиция бытия также подпадает под схему «наличие-лишение».
W.D. Ross (vol. II, p. 480): Росс заключает, что этот вывод показывает глубокую связь учения о противоположностях с центральными книгами «Метафизики» о сущности и с учением о материи и форме. Лишение – это то, как материя существует до принятия формы, а противоположность – двигатель изменения.
Глава 5. Проблема противопоставления единого и многого, равного, большого и малого.
1. Постановка проблемы противопоставленияТекст Аристотеля: «Поскольку единое противоположно единому, возникает вопрос, как единое и многое могут быть противопоставлены друг другу, и то же самое с великим и малым.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 642): Лосев указывает, что Аристотель ставит тонкую логическую проблему. Согласно установленному в предыдущей главе, противоположность всегда бинарна (п. 3). Но здесь мы имеем три термина: большое, малое и равное. Как они соотносятся? Является ли равное противоположностью большому? Или малому? Или обоим? Это частный случай более общей проблемы: как соотносятся друг с другом фундаментальные противоположности – Единое/Многое.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 481): Росс уточняет, что проблема возникает из-за того, что «равное» кажется отрицанием и большого, и малого одновременно. Но может ли одна вещь быть противоположностью двум? Это нарушало бы принцип бинарности.
2-4. Логический принцип «или-или» и его исключенияТекст Аристотеля: «Ведь в противном случае мы всегда говорим «или-или», когда говорим о противоположностях; например, нечто является белым или черным, белым или не белым; но мы не говорим: человек это или белый, если только мы не спрашиваем, исходя из определенной предпосылки, например пришел ли Клеон или Сократ. Это, однако, нигде не является необходимым, но противоположности второго рода скорее вытекают из действительных противоположностей первого рода. Противоположности сами по себе не могут существовать одновременно, и это лежит в основе вопроса о том, пришел ли Он или Он. Если бы было возможно, чтобы оба пришли одновременно, вопрос был бы нелепым.»
Комментарий:
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 485): Бониц объясняет, что Аристотель напоминает о фундаментальном законе логики для противоположностей: вопрос «А или Б?» (где А и Б – противоположности) всегда предполагает, что истинно только одно. Исключение – когда мы выбираем между двумя разными вещами (Клеон/Сократ), которые не являются противоположностями. Но и этот вопрос теряет смысл, если оба могут быть истинны одновременно.
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 423): Лега подчеркивает, что этот логический принцип коренится в онтологии: противоположности не могут одновременно присутствовать в одном и том же отношении в одном и том же субъекте. Это основание для невозможности ситуации, когда нечто одновременно и велико, и мало в одном смысле.
5-6. Трудность противопоставления равного большому и маломуКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.











