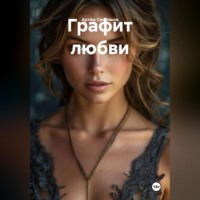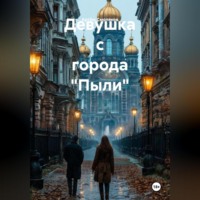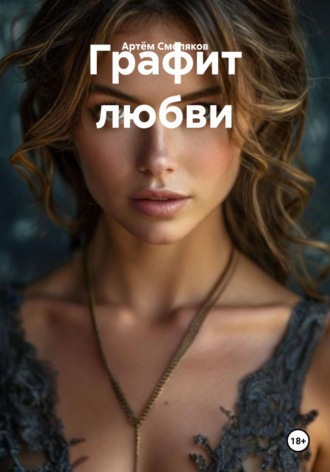
Полная версия
Графит любви

Артём Смоляков
Графит любви
ГРАФИТ
Л
Ю
Б
В
И
Пролог
В Москве март – это не весна. Это время года, когда зима словно показывает свою изнанку: все серое, промозглое и слякотное. Снег, который раньше был белым и пушистым, теперь лежит на тротуарах и крышах, напоминая грязно-бурый кашель. Воздух наполнен выхлопами автомобилей и ощущением безысходности.
Именно в это унылое время моя жизнь, которая раньше была предсказуемой, как маршрут метро «Кольцевая», свернула на совершенно другую линию.
Я, Анна Смирнова, шла по перрону станции «Курская», затерянная в толпе таких же усталых, закутанных в серые пальто людей. Студенты, офисные планктоны, бабушки с тележками – все мы были частицами этого огромного, вечно спешащего и вечно недовольного организма под названием Москва. В руке – потрепанный томик русской классики, в голове – мысли о незаконченной дипломной работе по литературе и о вечно пустом кошельке. Романтика? Страсть? Казалось, это слова из другого языка, из той жизни, что мелькала за витринами дорогих бутиков на Петровке или в сочных красках глянцевых журналов.
А потом был он. Не на перроне. Нет. Его мир был в другом измерении. Наше пересечение случилось позже, в стерильно-холодных стенах издательского дома «Вершина», куда я, дрожа от волнения, принесла статью для университетской газеты. Обычный интервью с обычным топ-менеджером. По крайней мере, так мне сказали. Но Никита Васильевич Волынский был всем, кроме обычного.
Помню, как замерла в дверях его кабинета – не кабинета, а целого пентхауса с панорамными окнами на бескрайнее море огней ночной Москвы. Воздух здесь был другим: густой, насыщенный дорогим парфюмом, властью и… опасностью. Он стоял у окна, спиной ко мне, силуэт его – широкие плечи, безупречный покрой темно-серого костюма – казался вырезанным из самого мрамора могущества. Когда он обернулся, время споткнулось.
Его глаза. Боже, эти глаза. Цвета грозового неба над Москвой – не голубые, не серые, а именно стальные. Они не смотрели – сканировали, проникали под кожу, выворачивали душу наизнанку с первого же мгновения. В них не было ни капли тепла, только леденящий, сжигающий одновременно, холод. И невероятная, подавляющая воля. Я почувствовала себя мышью перед удавом. Маленькой, ничтожной, абсолютно раздетой под этим взглядом.
Голос его был низким, бархатистым, но в нем звенела сталь. Каждое слово – точный удар. Он говорил о бизнесе, о цифрах, но его присутствие заполняло все пространство, давило на грудную клетку. Я едва могла дышать, едва могла выдавить ответы, чувствуя, как предательски дрожат руки. Он задавал вопросы, которые выходили далеко за рамки интервью. О моих мечтах. О моих страхах. О том, что я скрываю даже от самой себя. Казалось, он знал. Знал все.
Когда интервью, наконец, закончилось, и я уже мысленно благодарила все высшие силы за возможность сбежать, он остановил меня одним жестом. Изящным движением руки он достал из внутреннего кармана пиджака не конверт с гонораром, как я ожидала, а тонкий, черный конверт из плотной, дорогой бумаги.
– Анна… – Мое имя на его губах прозвучало как приговор… или обещание. Неприличное, пугающее обещание. – Прежде чем уйти. Прочти это. Только когда будешь одна. – Он протянул конверт. Его пальцы едва коснулись моих, но ток, пробежавший по коже, заставил меня вздрогнуть, как от удара. – Там… предложение. Оно не для всех. Но я думаю, оно для тебя. Решишься ли ты на него – другой вопрос. Ты выглядишь… хрупкой.
В его стальных глазах мелькнуло что-то неуловимое. Не усмешка. Скорее, вызов. И предвкушение. Я взяла конверт. Он был тяжелее, чем казался. Без адреса, без подписи. Только мое имя, выведенное четким, безошибочным почерком.
– Что… что это? – прошептала я, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Он лишь слегка наклонил голову, и тень от его ресниц упала на скулы.
– Возможность, Анна. Выйти из серости. Узнать оттенки, о которых ты даже не подозреваешь. Или… остаться в своей безопасной, предсказуемой клетке. Выбор всегда за тобой.
Он повернулся к окну, к своим владениям, растворяясь в силуэте на фоне бесконечных огней Москвы. Беседа была окончена.
Я вышла на улицу. Мартовский ветер бил в лицо ледяными иглами, но я его не чувствовала. В пальто, в кармане, лежал тот черный конверт. Он обжигал кожу сквозь ткань. Он пульсировал, как живой. Внутри была тайна. Дверь. Дверь в другой мир, созданный Никитой Волынским. Мир роскоши, абсолютной власти и… чего-то темного, необузданного, что манило и ужасало одновременно.
Моя серая, безопасная жизнь осталась позади, в пыльном коридоре издательства. Теперь передо мной был только этот конверт, его стальные глаза и немой вопрос: «Решишься ли ты?»
Страх сдавил горло. Но под ним, глубже, предательски и неистово, забилось что-то другое. Любопытство. Азарт. И первая, пугающая искра того, что я боялась назвать… желанием.
Глава 1: Непробиваемая тьма Октябрьской
Мартовский ветер выл в щели рамы моей общажной клетушки на юго-западе Москвы, гоняя по стеклу струи грязного дождя. В крохотной комнате, пропахшей старым пледом и пылью с книжных полок, черный конверт с контрактом на столе казался инопланетным артефактом. Его гладкая, почти кожаная бумага, мое имя, выведенное четким, безошибочным почерком Никиты Волынского – все это дышало иным миром, миром недосягаемой власти и холода, столь отличным от скрипучего ДСП и вечного сквозняка здесь. Я прижала плед к груди, но ледяная тяжесть шла изнутри. Мама… Всплыл образ: ее осунувшееся лицо на подушке в нашей убогой подмосковной комнатушке, надсадный кашель, разрывающий тишину. Цифры в кредитных договорах, которые я подписывала с дрожащими руками, росли, как грибы после дождя, пожирая и без того скудную стипендию и ночные заработки официантки. Конверт был спасательным кругом, обмотанным колючей проволокой. Слова «альтернативные формы межличностной динамики» звучали как шифр для чего-то постыдного и пугающего. Но разве безысходность не страшнее? «Хрупкая», – эхом прозвучал его голос в памяти. Да, я была хрупкой, как тонкий лед на весенней луже. Но под слоем страха и стыда за собственную отчаянную готовность к сделке копошилось иное – запретное любопытство, азарт игрока, ставящего все на кон, и та самая, обжигающая искра, которую заронил его стальной взгляд в стерильном кабинете издательства. Он увидел меня. Насквозь. Раздетую догола взглядом. И это странное ощущение – быть замеченной, пусть и как объект – пьянило.
Часы показывали 17:15. Я стояла перед мутным общажным зеркалом. Моя «лучшая» черная юбка и простой серый свитер вдруг показались жалким рубищем, символом всей моей убогой жизни. Это для нее. Для мамы. Единственный шанс вырваться. Дрожь в руках была такой сильной, что ручка выскальзывала из пальцев. Я подписала контракт, поставила дату. Ощущение было сродни прыжку в черную бездну без парашюта.
Такси высадило меня у неприметного, но монументального портала из черного дерева на Пречистенской набережной. Камера повернулась с тихим жужжанием, замок щелкнул пневматическим вздохом. Внутри царила гробовая тишина, нарушаемая лишь моим неровным дыханием. Под ногами – темный, маслянисто блестящий дубовый паркет, в воздухе витал запах – смесь дорогой кожи, дымного бензоина и чего-то неуловимого, холодного, металлического, как его глаза. Это был его воздух. Лифт, обшитый матово-черным металлом, мягко поглотил меня и сам поднял наверх. Двери разъехались бесшумно, открывая… непробиваемую тьму.
Я замерла на пороге. Пространство, зияющие передо мной, было огромным, пугающе пустым и погруженным в абсолютную черноту. Лишь в бесконечной дали, сквозь гигантские, во всю стену, панорамные окна, мерцали огни ночной Москвы. Золотые купола Кремля, холодные иглы Москва-Сити, темная лента реки с перекинутыми мостами-ожерельями – все это сияло россыпью драгоценных камней на черном бархате. Слабый отсвет города выхватывал лишь скупые контуры интерьера: острые углы мебели из черненого дуба и полированной стали, фрагмент абстрактной скульптуры, напоминавшей застывший вихрь, холодный блик на стеклянной поверхности низкого стола. Ни ковров, ни картин, ни безделушек. Только минимализм, ледяная стерильность, подавляющая мощь и этот захватывающий дух вид на уснувший город. Воздух был прохладен и густ, как будто пропитан самой тишиной и невидимым давлением его воли. Его неприступное царство.
«Войди, Анна».
Его голос возник неожиданно близко, слева, из самой гущи темноты. Низкий, бархатистый, но с той же неумолимой сталью внутри, что пронизывала его взгляд. Он не двигался. Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Он наблюдал. Всегда наблюдал.
Сделав шаг вперед, я провалилась в черноту. Дверь лифта бесшумно сомкнулась за спиной. Тихий, но отчетливый щелчок замка прозвучал как приговор. Я стояла в центре непробиваемой темноты, прижимая сумку с подписанным контрактом к телу, как последний щит. Сердце колотилось так громко и бешено, что его стук, казалось, отдавался эхом в безмолвном гигантском пространстве.
«Ты принесла Соглашение». Это было не вопросом, а холодной констатацией. Его незримое присутствие сгустилось, стало осязаемым, излучающим волны холодной энергии. Он приблизился, невидимый. Запах его парфюма – теперь отчетливей, смешанный с легким, терпким ароматом коньяка – обволакивал меня. «Дай сюда».
Тело онемело. Пальцы судорожно вцепились в ручку потрепанной сумки.
«Анна». Мое имя, произнесенное им, было как удар хлыста. Тонким, точным, не терпящим возражений. «Не заставляй меня повторять».
Дрожь стала неконтролируемой. Я едва расстегнула сумку, доставая папку. Темнота была такой абсолютной, что я не видела собственных рук. Внезапно его пальцы – сухие, сильные, прохладные – коснулись моих, вырвали документ. Я услышала его шаги, удаляющиеся в темноту, легкий шелест страниц. Затем – щелчок. Мягкий, направленный луч света упал на низкий стеклянный стол, где стоял единственный предмет – хрустальный стакан с янтарной жидкостью. Никита Волынский шагнул в этот луч, как на сцену. Без пиджака. Черная рубашка из тончайшей ткани, расстегнутая на две верхние пуговицы, подчеркивала мощный рельеф плеч и широкой груди. Свет скользил по острым скулам, высвечивая губы, сжатые в тонкую линию, и делая его стальные глаза еще более пронзительными, нечитаемыми. Он положил папку рядом со стаканом.
«Приложение А. Правила». Он достал из внутреннего кармана брюк еще один, совсем тонкий черный лист, сложенный пополам. Его движения были экономичными, точными. «Они не подлежат обсуждению. Ты читаешь. Ты принимаешь. Ты выполняешь. Или…» Он сделал едва заметную паузу, давая словам вес. «…уходишь. Сейчас. Без последствий. Но без вознаграждения». Он протянул мне лист. Расстояние между нами сократилось. Я почувствовала исходящий от него холод. «Читай. Вслух».
Мои пальцы, холодные и неуправляемые, с трудом развернули плотную бумагу. Четкий, машинописный текст ударил по сознанию, как молот:
1. Безоговорочное подчинение… (Воля парализована…)
2. Контроль темпов и границ… Стоп-слово "Кодекс"… (Хоть какая-то соломинка?)
3. Физическая неприкосновенность (Ограниченная)… Допустимы синяки… Приложение Б… (Боже, что там? Плети? Свечи? Ножницы холодного ужаса сжали горло. Образ матери, бледной, в больничной палате, которую я не могу оплатить…)
4. Абсолютная конфиденциальность… (Запрет на слово, на дыхание…)
5. Медицинский аспект… Полное обследование… (Унижение как норма…)
6. Внешний вид… По указанию Доминанта… (Я – кукла?)
7. Временные рамки… Опоздания недопустимы… (Расписание рабыни…)
8. Эмоциональная дистанция… Никаких чувств… (Сердце под запретом…)
9. Безопасность… (Ирония?)
10. Расторжение… (Клетка с золотыми прутьями…)
Рабство. Контракт на три месяца быть вещью. Игрушкой. С "допустимыми синяками". "Кодекс"… Спасительное слово или иллюзия контроля? Смогу ли выговорить его, когда…? А квартира… Операция для мамы… Эти кредиты, душащие удавкой… Уйти сейчас? Бросить все? Но тогда – конец. Полная безысходность. Надежды нет. Он стоит там, в свете, и читает мой ужас как открытую книгу. Наслаждается?
Я закончила читать. Последнее слово повисло в тяжелой тишине, которая давила на уши, как вода на глубине. Свет от лампы выхватывал только стол, стакан, его руку, лежащую рядом с Приложением А. Его лицо оставалось наполовину в тени, непроницаемым.
«Вопросы?» – его голос был ровным, гладким, как поверхность замерзшего озера.
«Приложение Б…» – мой собственный голос показался чужим, сорванным. «Что там?»
Он слегка наклонил голову. Свет скользнул по иссиня-черным волосам. «Перечень инструментов и практик. От относительно простых до… более интенсивных. Увидишь его, когда будешь готова. Или когда я решу, что ты готова». Пауза, наполненная невысказанной угрозой. «Сомневаешься в своих силах, Анна? Я ведь предупреждал: ты выглядишь хрупкой. Сейчас – твой последний шанс. Развернись. Нажми кнопку. Уйди. Забудь этот вечер как страшный сон. Я позабочусь, чтобы юридических последствий не было. Но квартира… лечение матери…» Он сделал легкий, разящий жест рукой. «…канут в Лету».
«Никита Васильевич, документы по сделке «Вертикаль» подготовлены к вашему подписанию. И господин Дубинин подтвердил встречу на завтра, 10:00». – Холодный, безупречно модулированный женский голос возник справа, из кромешной темноты. Я вздрогнула, сердце екнуло, не подозревая о присутствии третьего. В лучик света на мгновение ступила женская нога в идеальной черной лодочке на тончайшей шпильке и край строгой юбки-карандаш из дорогой ткани. Алиса. Его тень. Хранительница всех секретов.
«Спасибо, Алиса. Положи на стол в кабинете. Я ознакомлюсь позже», – не отрывая невидимого, но ощутимого взгляда от моего лица, ответил Волынский. В его тоне не было ни капли тепла или знакомства, только холодная деловитость.
«Хорошо, Никита Васильевич», – голос Алисы растворился в темноте так же бесшумно, как и появился. Снова остались только мы. Он, я и черный лист Правил, который я сжимала в ледяных пальцах, как обуглившееся свидетельство моего выбора.
Никита Волынский сделал один плавный шаг вперед, полностью выходя в сферу света. Его стальные глаза прищурились едва заметно, превратившись в узкие прорези, сканирующие мое лицо с ледяной беспристрастностью скальпеля. Он видел все: панику, пульсирующую в висках, стыд, горящий щеками, отчаяние, сжимающее горло. Он медленно поднял руку. Я замерла, инстинктивно вжав голову в плечи, ожидая прикосновения, удара, неведомого насилия. Но он лишь коснулся кончиком указательного пальца моей кожи чуть ниже подбородка. Прикосновение было легким, почти невесомым, но обладало сокрушительной властностью. Он приподнял мой подбородок, заставляя встретиться взглядом с его бездонными стальными глазами. Кожа под его пальцем запылала.
«Решение, Анна?» – его голос стал тише, почти ласковым, но от этого только опаснее, как шелест змеи в траве. – «Три месяца твоей жизни. Твоей воли. Твоего тела. В обмен на свободу от долгов, здоровье матери и крышу над головой. Подчинение. В обмен на власть над своей судьбой. Сейчас. Сию секунду. Да или нет?»
Я смотрела в эти ледяные бездны. Чувствовала холод его пальца на своей коже. Слышала бешеный маятник собственного сердца, отсчитывающего последние мгновения свободы. Страх вопил: «Беги! Пока не поздно!» Но перед глазами стояло лицо матери – измученное, безнадежное. Цифры кредитов, выраставшие в голове чудовищными колоннами. Серая стена общаги, символ всей моей нищей, беспросветной жизни. Воздух с трудом прорвался через сдавленное горло.
«Я…» – голос был хриплым, чужим. Я сглотнула ком, поднявшийся из груди. – «Я остаюсь».
На его губах – столь желанных и пугающих – дрогнул едва уловимый намек. Не улыбка. Тень триумфа. Удовлетворение хищника, видящего, как жертва сама идет в капкан.
«Хорошо», – он убрал палец. Его взгляд, медленный, оценочный, скользнул по мне сверху вниз – от спутанных от волнения волос до дешевых туфель. Он осматривал приобретение. «Тогда начинаем. Правило Шесть: Внешний вид. Этот свитер. Эта юбка.» Его голос стал металлическим, бескомпромиссным. «Они не соответствуют регламенту. Сними их. Сейчас. Дай мне увидеть, что я… приобрел.»
Воздух вырвался из моих легких со стонущим звуком. Первый приказ. Первое испытание на прочность. Первое унижение. Я стояла в эпицентре его темного всевластия, под неотрывным, пожирающим взглядом, чувствуя, как жгучий стыд и странное, предательски нарастающее возбуждение сплетаются в тугой, болезненно-сладкий узел глубоко внизу живота. Пальцы, дрожащие так, что суставы хрустели, потянулись к подолу дешевого серого свитера. Темнота вокруг сгущалась, казалась живой и дышащей. Луч света на столе был единственной точкой опоры в этом рушащемся мире. Он ждал. Неподвижный. Молчаливый. Абсолютно властный. Прыжок совершен. Началось.
Глава 2: Запах страха, шелка и неизбежности
Приказ Никиты Волынского – «Сними их. Сейчас.» – повис в ледяной, стерильной тишине пентхауса, не оставляя места для сомнений или промедления. Он был острым, как лезвие, и холодным, как сталь его глаз, которые, казалось, просвечивали меня насквозь даже из полумрака за границами луча света, где он стоял, невидимый и всевидящий. Стыд вспыхнул во мне мгновенно, жгучей волной, поднимающейся от живота к горлу, окрашивая щеки пунцовым румянцем, который я чувствовала, как ожог. Этот стыд был огнем в ледяном царстве его власти. Но глубже, под ним, в самых потаенных уголках, клубилось и росло нечто иное – унизительное, запретное возбуждение, заставляющее сердце колотиться с бешеной силой, а между ног выступила предательская, смущающая влага. Он знает. Он видит все. Даже это. Особенно это.
Руки… Почему они деревянные? Почему не слушаются простейшей команды? Это же просто ткань. Ты снимала одежду тысячи раз – в тесной общажной душевой, где кабинки не закрывались, на пляже у реки в Подмосковье, перед врачами… Но это не пляж. Это не врач. Это – аукцион. И лот под номером один – твое тело, твоя воля, твоя нищета, выставленные на обозрение. Мама… Ее лицо, осунувшееся от боли, ее глаза, полные безнадежной усталости… Квартира… Хоть какая-то стабильность… Думай о них! Держись за них, как за спасительный обрывок плота в бушующем море! Но мысли путаются, сбиваются с ритма бешеным стуком сердца. В голове только его взгляд – пронзительный, всевидящий – и этот невозможный приказ, эхом отдающийся в пустоте. Сделай это. Быстро. Резко. Как прыжок в ледяную прорубь. Не думай.
Дрожащие, почти онемевшие пальцы наконец нашли край дешевого серого свитера. Грубая, колючая акриловая ткань зацепилась за мочку уха, причинив мимолетную боль. Я дернула вверх, чувствуя, как холодный воздух пентхауса касается сначала оголившегося живота, затем ребер. Мурашки побежали по коже рук, спины, заставив меня содрогнуться. Свитер застрял на голове, ослепив на мгновение и наполнив ноздри запахом собственного страха и дешевого стирального порошка. Я рванула сильнее, услышав предательский треск шва на плече. Воздух ворвался в легкие, когда я вырвалась на свободу, скомкав свитер в бесформенный клубок и бросив его к своим босым ногам на безупречно отполированный паркет. Осталась в простом белом хлопковом лифчике, внезапно показавшимся нелепо инфантильным, убогим на фоне окружающей подавляющей роскоши и холодной силы.
«Юбку», – его голос прозвучал из темноты, ровно, без повышения тона, но давление в воздухе усилилось, сжав грудную клетку. Не смотри вниз, на эту жалкую кучку одежды. Не смотри на него, в эту темноту, где таятся его глаза. Смотри в пустоту перед собой. В никуда.
Пуговица на талии расстегнулась с трудом, дрожащие пальцы скользили по ней. Молния разошлась с тихим, унизительно громким в тишине шипением. Юбка, потеряв опору, скользнула по бедрам, обнажив простые хлопковые трусики под дешевыми колготками телесного цвета. Я наклонилась, подобрала ее, добавив к свитеру. Теперь я стояла перед ним – или перед его незримым присутствием – в белье и колготках, чувствуя себя абсолютно обнаженной, несмотря на прикрывающую тело ткань. Холод от дубового паркета проникал сквозь тонкие колготки, заставляя стопы неметь. Руки инстинктивно потянулись прикрыть живот, сомкнуться на груди. Неужели этого достаточно? Он удовлетворен?
Ответом была тяжелая, гнетущая тишина, нарушаемая лишь моим собственным прерывистым дыханием и далеким, приглушенным гулом ночной Москвы за гигантскими окнами. Он не произнес ни слова. Просто смотрел. Его невидимый взгляд был физическим прикосновением, медленным, методичным скальпелем, скользящим от моих босых, слегка посиневших от холода ног вверх – по икрам, дрожащим бедрам, животу, который я безуспешно пыталась втянуть, груди, прикрытой детским лифчиком, к моему лицу, на котором читались все оттенки страха и стыда. Он изучал каждую родинку, каждый мурашек, каждый нервный тик, каждый вдох и выдох, заставляя мою кожу пылать под этим визуальным досмотром, под этим молчаливым присвоением.
«Колготки», – наконец прозвучало из темноты. Голос был тише, почти интимным, но от этого не менее повелительным, неумолимым. Боже… Дальше некуда…
Наклон дался с трудом. Голова закружилась от волнения и позы. Пальцы, одеревеневшие, цеплялись за резинку колготок на талии. Мне пришлось опереться ладонью о ледяной паркет, чтобы не потерять равновесие, когда я стаскивала колготки сначала с одной ноги, затем с другой. Процесс казался бесконечно унизительным в своей неловкости, в обнажении еще одного слоя. Тонкая ткань колготок присоединилась к жалкой груде на полу. Теперь – только белье. Белый хлопковый лифчик и такие же трусики – последний, жалкий, убогий бастион моей скромности, кричащий о моей нищете и несоответствии этому месту, этому человеку. Я выпрямилась, снова инстинктивно скрестив руки на животе, чувствуя, как огонь стыда пылает на щеках, ушах, шее. Его взгляд, невидимый, но ощутимый, как луч лазера, остановился на моих руках, скрывающих живот.
«Руки по швам. Я должен видеть», – прозвучал приказ. В голосе, всегда таком контролируемом, пробилась едва уловимая, но отчетливая нотка нетерпения. Как у человека, которому надоело ждать.
Видеть что? Мой пупок? Живот? Дрожь, сотрясающую меня? Это же… намеренное унижение. Проверка границ. Проверка меня. Но "беспрекословное подчинение"… Черным по белому. Первое правило. Я сама поставила подпись. Я сама осталась. Значит… игра началась. И правила диктует он. Сейчас. Только сейчас. Не думай о завтра. Не думай о вчера. Думай о маме. Думай о том, что если я не выдержу этого, все рухнет. Собрав всю волю в кулак, ощущая, как каждая мышца сопротивляется, я медленно опустила руки, вжав ладони в бедра так, что ногти впились в собственную кожу. Я стояла перед ним (или перед его тенью), как экспонат на подиуме, в центре луча света, в жалком, девичьем белье, под его всевидящим, оценивающим, безжалостным взглядом. Страх сжимал горло ледяным кольцом, смешиваясь с парализующим, предательским возбуждением, которое пульсировало где-то глубоко внизу живота, смущая и пугая одновременно. Я чувствовала каждое биение своего сердца, каждый нерв на коже, каждую молекулу холодного воздуха, касающуюся оголенных участков тела.
Он начал медленно обходить меня. Его шаги были бесшумными на паркете, но я чувствовала его перемещение – легкое смещение воздуха, изменение интенсивности его взгляда, который теперь скользил по моей спине, ощупывая каждую позвонок, останавливаясь на ягодицах, на сведенных от холода и напряжения лопатках, на шее. Его запах – кожи, бензоина, дорогого табака и абсолютной власти – становился то ближе, почти осязаемым, то удалялся, оставляя послевкусие холода. Это был осмотр товара высшей категории. Тщательный, беспристрастный, лишенный малейшего намека на человеческое участие. Когда он снова оказался передо мной, его лицо, подсвеченное теперь краем луча, оставалось идеально контролируемой маской. Ни тени смущения, интереса или отвращения. Только холодная концентрация.
«Хрупкая», – повторил он свое слово из издательства, и в нем теперь не было ни капли предупреждения, только констатация факта, как диагноз. «Но не лишенная… определенного потенциала». Его взгляд, тяжелый, аналитический, задержался на моей груди, прикрытой тонким хлопком, где соски, от холода и его внимания, предательски очерчивались под тканью. Затем взгляд медленно поднялся к моим глазам. «Твоя одежда… недостойна тебя. И тем более – недостойна места здесь. Ее не будет».
Я не знала, что ответить. Стояла, пытаясь подавить дрожь в коленях, чувствуя, как слезы унижения подступают к глазам. Я отвела взгляд в сторону, в темноту, где мерцали огни города.