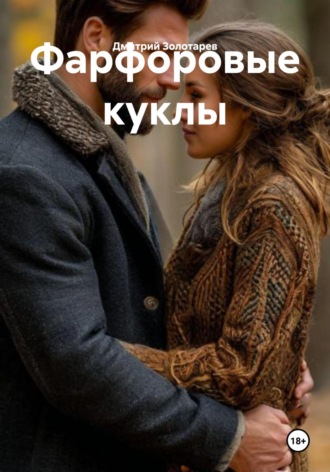
Полная версия
Фарфоровые куклы
– Кажется у нас есть что-то общее, – неловко добавила она.
– Вполне может быть, – в уголках губ мелькнула тень улыбки. – Александр.
– Мира.
Пауза. Тишина.
– Видел вас вчера у моря, – сказал он спустя мгновение. – Хорошее место, если хочешь, чтобы тебя не трогали.
– Именно поэтому я здесь, – ответила она. – Мне сейчас нужна тишина.
Он смотрел медленно, глубоко – не оценивая, не выискивая. Как тот, кто может разглядеть боль.
– Если захочется просто помолчать, – сказал он, – у меня всегда есть немного свободного места и кофе.
Она кивнула. Ей не нужен был кофе. Но мысль о том, что рядом есть дверь, которую можно не открыть, но знать, что она есть, – была странно исцеляющей.
Позже, дома, Мира не спешила включать свет. Комнаты тонули в вечерней синеве, словно в укрытии, где мир ещё не требует объяснений. В этом полумраке было что-то родное – как в детстве, когда темнота не пугала, а прятала от слишком яркой действительности. Она присела на диван, медленно расстегнула куртку, словно сбрасывая с плеч груз прошедшего дня, стянула резинку с волос, и пряди мягко упали на плечи, обрамляя лицо, в котором усталость и спокойствие сошлись на равных. Её кожа всё ещё помнила холодную влажность морского воздуха, терпкость соли на губах, и тот взгляд, который они обменялись с Александром. Взгляд, не пытающийся владеть или раскусить, не цепляющий, но – настоящий. Как камень в ладони: простой, тяжёлый, неподдельный.
«Кофе и свободное место». Простая фраза. Почти смешная в своей обыденности, но в ней было что-то, чего давно не хватало – отсутствие цели, претензий и скрытых условий. Просто быть. Без попыток вытащить чужую боль или вплести свою. Без этих бесконечных «я знаю, как тебе лучше». Мира подумала, что сама так умеет – с пациентами, да. Там, где чужие истории были материалом, а не угрозой. Но с собой – почти никогда.
На кухне она готовила омлет, и этот ритуал казался ей маленьким островком безопасности. Звук трескающейся скорлупы, мягкое шипение масла – всё это было почти медитацией. Она не включала музыку: пусть говорили звуки ветра, стукавшегося в ставни, и лёгкое дыхание дома.
Фраза продавщицы всплыла сама собой: «Не повредит немного жизни». Как будто именно сейчас эти слова начали обретать смысл. Жизнь действительно проросла в мелочах – не ослепительным цветком, а робким ростком, едва заметным, но живым. И в этом не было ни эйфории, ни иллюзий. Только тихое «можно».
Когда омлет был готов, она села у окна. За стеклом лежало ночное небо, чистое и немое, подсвеченное заревом далёкого города, того, что она оставила позади. Там осталась её прежняя жизнь: кабинеты, бумаги, диаграммы, дипломы на стенах. И он. Тот, кто умел быть и солнцем, и тенью. Кто пахнет смехом, но режет словами. Кто сначала держит тебя за руку, а потом этой же рукой затягивает петлю. Его фразы были сладкими, но в них была кислота, разъедающая кожу изнутри.
Мира не давала себе думать о нём в лоб. Слишком много дверей, которые лучше оставить закрытыми. Но он был в каждом жесте: в том, как она держала телефон выключенным; в том, как всегда садилась лицом к выходу; в том, как вздрагивала от чужого голоса, даже если он был доброжелательным. Он жил внутри неё – не в образах, а в рефлексах. Как осколок, застрявший глубоко. Вытаскивать – значит снова кровоточить. Не трогать – значит жить с занозой.
Она вспомнила эпизод, который почему-то запомнился сильнее других: ссора, его ровный голос, и её серёжка, сорванная с уха. Тогда он сказал: «Ты не должна так выглядеть, чтобы я хотел тебя ударить». Он сказал это спокойно, как врач даёт рекомендацию. А она кивнула, потому что знала: если заплачешь – утонешь.
Она ела медленно, молча. И позволила себе то, чего раньше не делала: не осуждать себя за слёзы. Слёзы теперь были другими – не солёными вспышками паники, не рвущими голос и дыхание, а мягкой водой, которая тихо обмывала душу, словно смывала слой пыли. В этом ощущении было что-то похожее на выздоровление.
Позже, под пледом, Мира слушала тиканье часов. Оно звучало в висках, как сердце, которое ещё не решилось: бежать или успокоиться. Сон не приходил, но впервые это не раздражало. Внутри не было тревоги – только осторожная, почти хрупкая тишина.
Образы всплывали беспорядочно: утренний песок, продавщица с глазами, полными доброты, Александр у калитки, дымящаяся сигарета, его усталый, но стоический взгляд. «Кофе и немного пространства». Эти слова вдруг стали не предложением, а точкой отсчёта.
Она вспомнила университетского преподавателя, старика, прожившего, казалось, три жизни, который однажды сказал: «Люди ищут не тех, кто спасёт. Они ищут тех, кто останется рядом, даже когда ты разваливаешься. Кто не будет хватать за руку, но не уйдёт. В этом – суть терапии. И любви». Тогда это казалось красивой фразой. Теперь – единственной возможной истиной.
Под утро её разбудил запах дождя. Капли стучали по крыше и подоконнику, стекали по ржавым желобам, звенели по листве. Ливень не был грозой. Он был очищением.
Мира не торопилась вставать. Лежала, прислушиваясь к телу. Внутри всё ещё было тяжело, но уже иначе. Будто кто-то тихо убирал осколки, чтобы не порезаться снова.
Когда она подошла к окну, двор был пуст, калитка закрыта. Но чувство присутствия не исчезало. Не призрак, не фантазия. Просто ощущение, что за этой дверью есть кто-то, кто тоже дышит. И этого – достаточно.
На подоконнике лежал камень – тот же, что она подобрала на берегу. Влажный, холодный, но твёрдый. Она взяла его, сжала. Он был как она сама: тяжёлый, неровный, но настоящий.
Душ смыл остатки ночи, не стирая прошлого. И впервые она поняла: и не нужно стирать. Можно жить так. Без идеалов, без нового «я». Просто с собой.
Она сделала завтрак – кашу, кофе. Даже поставила вазу с сухоцветами на стол, будто давая себе знак: это пространство живое. Это пространство моё.
В полдень она вышла из дома. Зонт, книга. Просто прогулка. Не за кем, не от кого.
Проходя мимо соседнего двора, замедлила шаг. Калитка была приоткрыта. На ступенях стояла пустая чашка. Может, ветер, может, знак. Она не заглядывала внутрь, не искала ответа. Просто пошла дальше, с лёгкостью человека, который знает: где-то рядом кто-то живёт в том же ритме.
И этого было достаточно.
И это было началом.
Глава 2
Александр просыпался не от звуков, а от их отсутствия. Покой был таким густым, что казался ненормальным – как тишина после взрыва, когда всё, что могло шуметь, уже разрушено. Окно, щербатое, с налётом старости, пропускало блеклый, усталый свет. Он не грел. Только констатировал: день наступил. А значит, снова надо что-то делать с собой, чтобы прожить его.
Он сидел на краю кровати. Сгорбленный, плечи опущены, руки на коленях. Лицо огрубело, словно за зиму кожа срослась с коркой земли. Не болело ничего – и это тревожило сильнее боли. Боль – признак жизни. А тут только глухой внутренний гул, будто тело договорилось с самим собой: живём, пока не прикажут умирать.
Он натянул старый, шерстяной свитер. Вещь без времени, без стиля, только функция. И сам он стал функцией – ходить, работать, курить, молчать. Мужики с участка звали его Саныч, даже те, кто младше. Почтение – не от симпатии, а от инстинкта. Он не кричал, не подлизывался, не смеялся. Но в его молчании было что-то, что не хотелось тревожить.
Он вышел во двор. Земля промёрзла, но не скрипела – только глухо отзывалась под подошвами. Снег слежался, грязно-белый, усталый. Вдох – табачный, ледяной. Выдох – невидимый. Всё исчезает. Даже дыхание.
Соседи кивали ему осторожно, будто он мог броситься. Хотя он не бросался никогда. Достаточно было того, что он просто жил рядом. Старик с соседнего дома возился с санками, что-то хрипел. Александр молча помог перетащить через колею. Старик буркнул «спасибо» – почти сквозь зубы. Он кивнул и пошёл дальше.
Люди знали: он не свой, но и не чужой. Словно скала на краю деревни – её не сдвинуть, не прогнать, не приручить. И чем дальше от неё, тем спокойнее.
В магазине он купил хлеб, молоко, сигареты. Продавщица сказала «доброе утро» с вежливостью, которая прячет лёгкое отвращение. Он не ответил. Не потому, что не хотел. Потому что незачем.
Дома зажёг плиту, бросил в кружку кофе. Чёрный, без сахара, без молока. Горечь, чтобы обжигало горло, чтобы помнить – ещё живой. Держал кружку двумя руками. Не потому, что мёрз. Потому что пальцы дрожали – особенно по утрам.
Он думал раньше, что сойдёт с ума. Что прорвёт, рванёт – и он кого-то убьёт, или сам ляжет. Но нет. Настоящее безумие оказалось другим: ничего не происходило. Никакой вспышки, никакого катарсиса. Только медленное, почти вежливое гниение.
За окном дети лепили снеговика. Кричали, падали, смеялись. Рыжая женщина, которую он пару раз встречал в аптеке, подхватила мальчика, прижала к себе. Он смотрел – и не чувствовал ничего. Ни зависти, ни раздражения. Просто чуждость. Как фильм, который уже видел и забыл, чем кончился.
Кофе остыл. Он приговорил его одним глотком. Кружку не помыл. Какая разница? Последние два дня не работал. Мог позволить. Если у тебя руки, спина и умение молчать, тебя всегда возьмут обратно. А пока – пауза. Провал.
На улице он сел на скамейку у старого клуба. Бутылка из-под дешёвого портвейна, окурки. Место не его, но он вписался и тут – как грязь между досками. Прошла девушка, молодая, в шапке с помпоном. Бросила взгляд. Он не ответил. И всё равно почувствовал, как она ускорила шаг. Эти взгляды – одинаковые: любопытство, осторожность, иногда жалость. Самый опасный – интерес.
Закурил. Дым вился и исчезал. Здесь его никто не знал. И это было лучшее, что с ним случилось за последние годы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









