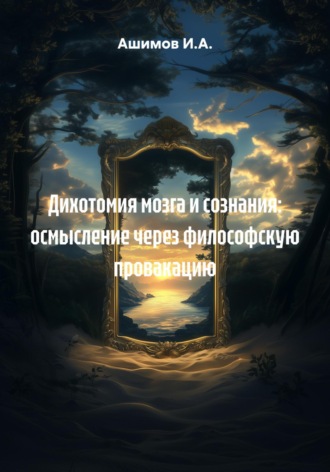
Полная версия
Дихотомия мозга и сознания: осмысление через философскую провакацию
Первый – закономерное и малосвязанное с внешней средой развертывание генетических программ, которые с течением времени направленно изменяют структуру и, соответственно, функции нейронных ансамблей подсознания и сознания; причем направленность изменений в структуре психики проявляется в обогащении созидательных возможностей мозга.
Второй – влияние на психические процессы внешней социальной среды, которое способствует развертыванию наследственно предопределенных потенциалов психики и полноте их реализации в онтогенезе.
§4. Эдельман – Базалук: карты без образов. Дж.Эдельман признает возможность нейронаучного изучения квалиа на том основании, что все люди обладают квалиа и что они способны давать словесный отчет о своих переживаниях, а также постольку квалиа могут быть скоррелированы с действиями людей и структурами и функциями мозга. Важное место в теоретических построениях Дж.Эдельмана занимает концепция высокоуровнего и первичного сознания. «Высокоуровневое сознание основано на наличии прямого осознавания у людей, владеющих языком и имеющих субъективную жизнь, о которой можно составить отчет. «Сначала мы должны построить модель для первичного сознания, надстроить над ней модель для высокоуровнего сознания, и затем начать проверять связи каждого из них с человеческим феноменальным опытом».
Эта программа обладает большими достоинствами, так как, опираясь на уже достигнутые результаты, описывает ряд ключевых нейрофизиологических механизмов и функциональных структур формирования сознания: взаимодействие таламокортикальных и лимбическо-стволовых систем, кольцевые процессы, которые охватывают различные специализированные структуры мозга, синхронизируют их функционирование и создают единый ней ронный ансамбль. В этой связи представляет большой интерес гипотеза «динамической сердцевины» – специфической нейродинамической системы, определяющей содержание сознательного переживания и его выделенности в данном интервале. В этом ракурсе О.А.Базалук (2015) пишет о том, что нейрофилософия, опираясь на достижения нейронауки строит модели развития психики.
Ретроспективный анализ прошедших этапов эволюции психики позволяет выделить некоторые закономерности. В частности, в ходе эволюции психики менялась значимость и отношение человека к своему телу. В настоящее время значимость тела обесценилась, потому что психика за счет новой, более совершенной внутренней структуры и функций научилась реализовывать свои внутренние потенциалы непосредственно. По автору, психика человека продолжает усложняться. Преимущественно бессознательная деятельность (преобладающая работа нейронного ансамбля подсознания) постепенно заменяется сознательными проявлениями – работой нейронного ансамбля сознания. Причина этих изменений – в работе наследственных программ: именно она в каждом новом поколении изменяет структуру высших отделов головного мозга и расширяет его функциональные возможности.
Вышеуказанные закономерности, которые наглядно просматриваются в эволюции психики человека, позволяют нам обозначить в образе человека будущего следующие основные направления развития: во-первых, интенсивное развитие структуры психики приведет к обогащению её функциональных возможностей. С каждым поколением в психике все больше преобладает активность нейронного ансамбля сознания, что приводит к значительному увеличению объема накапливаемой и используемой в аналитической работе информации, а также к более значимой (масштабной и всепроникающей) созидательной деятельности; во-вторых, непрерывное, генетически обусловленное совершенствование сознательной деятельности изменит форму продуктов труда.
Дж.Эдельман говорит о возникновении в ходе эволюции «оценочно-категориальной памяти» как условии появления сознания: «В отличие от системы перцептивной категоризации, эта система концептуальной памяти способна категоризовать ответы в различных мозговых системах, которые осуществляют перцептивную категоризацию, и она делает это в соответствии с требованиями лимбическо-стволовой системы оценок». И все же некоторое сомнение возникает в связи с описанием первичного сознания.
Если существуют животные, обладающие только первичным сознанием, а автор определенно говорит об этом, то трудно допустить, что в их перцептивныхкатегоризациях, способе отображения внешней действительности и собственной телесности отсутствуют регистры прогнозирования (некоторого, пусть примитивного, предвидения) и чувства протосамости. Это противоречит фактам целесообразного поведения в изменяющейся среде и способности научения, успешной психической самоорганизации.
Вот еще одно определение автора: «Первичное сознание обеспечивает средства соотнесения данных, касающихся настоящего момента индивида, с его действиями и наградами в прошлом. Организацией скоррелированной сцены оно обеспечивает адаптивный путь направления внимания в ходе реализации последовательностей сложных обучающих задач. Оно дает также эффективные средства корректировки ошибок». Все эти свойства первичного сознания, если «первичное сознание, – как пишет автор, – должно быть реально действующим», невозможно себе представить без некоторой фундаментальной формы проекции в будущее. Пусть это не «концепт будущего», наличие которого отрицается автором (само понятие «концепта» недостаточно ясно), но это непременная общая способность всякого перцептивного акта, что хорошо подтверждается исследованиями зеркальных систем мозга и данными психиатрии. Впрочем, наше недоразумение, возможно, связано с различной интерпретацией способности прогнозирования и термина «концепт».
По О.А.Базалук (2015), психика избавится от функциональной (организменной) зависимости и научится, используя достижения техносферы, непосредственно воплощать свой творческий потенциал в материально-виртуальных или виртуальных продуктах труда; в-третьих, значимость человеческого тела снизится до элементарных функций жизнеобеспечения. Психика и дальше будет направлять свои созидательные возможности на замещение многих естественных структур и функций организма – искусственными органами, более контролируемыми и надежными. Она добьется значительного повышения продолжительности биологической жизни и функциональной активности мозга; в-четвертых, принципиально изменится система образования. Знание особенностей формирования и развития психики приведет к целевому и более эффективному воздействию со стороны социальной среды. В зависимости от возраста психики на нее будут воздействовать: семья, близкое окружение, образовательные учреждения со специфическим внутренним микроклиматом, рабочие коллективы, а также макросоциальные организации: нации, государства, цивилизации; в-пятых, существенные изменения претерпит повседневный образ жизни, его материальное обеспечение, общечеловеческие ценности. Психика оставит за собой сферу творческой самореализации, возложив на искусственные технические средства всю механическую работу. Для реализации внутреннего творческого потенциала вместо ограниченных возможностей тела психика создаст новые высокотехнологические средства труда, которые обеспечат непосредственную самореализацию психикой своих потенциалов; в-шестых, изменится техносфера в целом. Цивилизация выйдет на новый технологический уровень, в котором станут преобладать продукты сознательной деятельности, направленные на повышение эффективности работы сознания.
Модель первичного сознания, конечно, имеет смысл, особенно в плане вычленения и анализа минимального интервала субъективной реальности как «текущего настоящего». Но в нем всегда в той или иной мере есть проекция в будущее. Субъективная реальность присуща и животным, генетическая связь с ней человеческого сознания очевидна. Тем не менее столь же очевидно, что наша субъективная реальность обладает значительными существенными отличиями (язык, абстрактное мышление, поэтическое воображение, самосознание и др.).
Чтобы в теоретических построениях сразу же фиксировать эти отличия, может быть, стоит ограничить понятие сознания человеческой субъективной реальностью, а субъективную реальность животных обозначать другими терминами? Но это вопрос соглашения, которое должно быть заранее оговорено. Я предпочитаю использовать понятие сознания в смысле субъективной реальности человека, учитывая, разумеется, ее тесную связь с психикой животных.
Согласно концепции О.А.Базалука (2015), преимущественная работа нейронного ансамбля сознания в повседневной жизни проявляется в более эффективном взаимодействии психики с информационной средой: она больше запоминает, быстрее думает, масштабнее воспринимает проблему, из множества вариантов выбирает наиболее эффективные решения, имеет обостренную интуицию, умеет стратегически мыслить, прогнозировать будущее и т.п. Развитие психики в масштабах цивилизации происходит неравномерно: в современном обществе можно выделить психики с различным уровнем совершенства: первая группа – психики с преобладающей активностью нейронного ансамбля сознания; вторая группа – психики, в которых активность сознания незначительно уступает работе нейронного ансамбля подсознания; третья группа – психики с ярко выраженной работой подсознания.
Автор рассматривает особенности формирования психик с преимущественной работой нейронного ансамбля сознания. Напоминаем о том, что такие личности: во-первых, быстрее и эффективнее мыслят; во-вторых, больше запоминают и воспроизводят в памяти; в-третьих, более адекватно и масштабно воспринимают и осмысливают проблему; в-четвертых, более четко и объективно разбираются в вариантах решений проблем; в-пятых, более реально оценивают ситуацию и осуществляют выбор решений; в-шестых, так как у них более развита интуиция, то умеют стратегически мыслить, планировать, прогнозировать будущее; в-седьмых, меньше склонны к иллюзиям, догматам, стереотипам, манипуляциям.
Итак, особенности таких личностей:
Первая. Самодостаточность и крайняя индивидуальность. Преимущественная работа сознания приводит к значительному обесцениванию чувственно-эмоциональных установок, заложенных социумом на уровне подсознания. Именно поэтому такие психики не понимают, почему они должны следовать чьим-то установками или кем-то установленным правилам. В работе с ними важно сместить акцент с «чувства» долга к «осознанию» своего предназначения.
Вторая. Нивелирование чувственно-эмоциональных проявлений подсознания. Психика с преобладающим сознанием чрезмерно рациональна, прагматична, часто догматична и педантична. Догматом для неё выступают не чувственно-эмоциональные установки, заложенные на уровне нейронного ансамбля подсознания, а закрепленное, граничащее с фанатизмом, постоянно осознаваемое и оцениваемое «предназначение» как реально осознаваемый образ видения своего жизненного пути. Если в обычной психике внутреннее «Я» закреплено, главным образом, на уровне чувств и эмоций, что делает его предсказуемым и управляемым, то в психике с преимущественной работой сознания внутреннее «Я» – это действенный, постоянно осмысливаемый и переосмысливаемый образ, который контролирует как внутрипсихическую активность, так и её проявления. Это живой образ, который профессионально манипулирует собственным телом и его внешними проявлениями, а также близким социальным окружением, воздействуя на их чувственно-эмоциональные составляющие.
Третья. Чрезмерная критичность. Это проявляется в нигилизме и постоянной переоценке внутренней и внешней информационной среды.
Четвертая. Качественный «просчет» процессов и явлений, в которых они соучаствуют или нет, и принятие совершенно нестандартных решений. Именно по этой причине в работе с ними требуются совершенно иные подходы. Очень важно для таких психик освободить пространство самореализации и максимально способствовать свободе принятия решений.
Пятая. Повышение нагрузок при работе с информационной средой: более направлено и интенсивно заполнять нейронные объединения памяти качественной информацией. Чем продолжительнее и сложнее поступающая информация, тем выше аналитические и синтетические возможности сознания, тем эффективнее его решения и продуктивнее деятельность. Сознание работает не только (и можно сказать – не столько) с внешней информационной средой, сколько с внутренней информационной базой, т.е. с информацией, которая запечатлена в нейронных объединениях памяти. Чем больше разносторонней качественной информации будет заложено в психику, тем богаче её возможности, оригинальней решения и выше коэффициент полезной деятельности.
Шестая. Формирование жесткой дисциплины. Психики с преимущественной работой нейронного ансамбля сознания недоступны для влияния извне. Понятия «стыд», «совесть», «наказание» и т.п., им не свойственны, потому что все это суть проявления чувственно-эмоциональной составляющей психики. На рационализм и прагматизм сознательной деятельности можно повилять только через «предназначение», через формирование основных характеристик того внутреннего образа, который адаптирует состояние внутреннего мира к внешней среде. Дисциплина сплачивает «предназначение», делает его прогнозируемым и управляемым. Через жесткий внутренний самоконтроль можно изменить установки в «предназначении», приспосабливая его под изменяющиеся требования внешней социальной среды.
Седьмая. Формирование в психике модели стратегического мышления (глобального мышления). Основное отличие «стратегического мышления» от «тактического» заключается не в решении проблемы «здесь и сейчас», а в выборе решения не просто устраняющего проблему, а устраняющего с учетом последствий. И чем дальше в перспективу психика сможет просчитывать последствия от своего решения, тем совершеннее и нетипичнее окажется её деятельность.
Восьмая. Планетарный охват доносимого знания. Качественное стратегическое мышление возможно только на основе знаний, раскрывающих смысл процессов и явлений в планетарном масштабе.
Девятая. Одиночество как доминирующая среда существования. Такие психики самоактуализированы и нацелены на конечный результат. Основная среда, благоприятствующая их работе – это одиночество, полнейшая тишина, способствующая максимальной концентрации на работе с информационной средой, на принятии решений и просчете их последствий.
В теории сознания Дж. Эдельмана, как и в большинстве нейронаучных концепций сознания, есть один существенный недостаток. В них выносятся за скобки принципиальные вопросы о самом и способе его связи с мозговыми процессами – наиболее трудные вопросы проблемы «Сознание и мозг» и нейрофилософии. Дж. Эдельман использует для описания и объяснения явлений сознания понятия карты/отображения и сцены в головном мозге. «Под сценой, – пишет он, – я подразумеваю упорядоченное в пространстве и времени множество категоризаций известных и неизвестных событий, некоторые с необходимой физической и каузальной связью с другими событиями в той же сцене, а некоторые без нее». Но это по существу описание нейродинамических эквивалентов отображения событий в головном мозге, а не переживания соответствующего субъективного образа, в крайнем случае, это некое «слитное» описание, в котором не выделены специфические черты субъективной реальности и ее отношение к своему нейродинамическому эквиваленту. По словам автора, «не существует действительных образов или набросков в мозге.
«Образ» – это корреляция между различными видами категоризаций». Но ведь образ (например, зрительный образ), как явление субъективной реальности, действительно существует. Где же он существует, каков способ его сушествования? Когда я вижу дерево, в моем мозгу действительно нет копии дерева. Но вне мозга, помимо его деятельности не бывает никакого явления субъективной реальности. Как устранить это кажущееся противоречие и объяснить необходимую связь явления субъективной реальности с мозговыми процессами?
Попытка преодоления этой трудности содержится в предлагаемом Дж. Эдельманом теоретическом решении проблемы «Сознание и мозг». Отношение между данным явлением субъективной реальности (А) и соответствующей ему мозговой нейродинамической системой (Х) рассматривается как отношение между информацией и ее носителем, который представляет собой определенную кодовую структуру. Показано, что связь между А и Х является функциональной, что она выступает в форме кодовой зависимости; А и Х суть явления одновременные, однопричинные, находятся в отношении взаимооднозначного соответствия.
Нейрофилософию интересует вопросы осмысления бессознательного. Бессознательные влечения по Фрейду могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа. Между тем, психоанализ лежит в основе понимания многочисленных когнитивных искажений сознания и реальности если соотнести феномены к понятию коллективного бессознательного. В ХХ веке на базе теорий З.Фрейда, К.Юнга возникла мощная философская школа психоанализа, которая специально занимается отношениями между сознанием и сферой бессознательного.
Доказано, что бессознание включает в себя механизмы регуляции организма, наших движений и действий, содержит стереотипы поведения, которым мы привычно следуем, эмоционально- ценностные установки. Оно выступает вместилищем того, что мы по разным причинам желаем забыть. Между сознанием и бессознательностью, тем не менее, нет непреодолимой преграды, и вместе они составляют тот внутренний мир, которым обладает каждый из нас.
Бессознательное представляет собой форму психического отражения, в которой образ действительности и отношение субъекта к этой действительности представлены как одно нерасчлененное целое: в отличие от сознания в бессознательном отражаемая реальность сливается с переживаниями субъекта. В следствие этого, в бессознательном отсутствуют произвольный контроль осуществляемых субъектом действий и рефлексивная оценка их результатов. Все эти психологические механизмы и закономерности лежат в основе формирования у людей когнитивных искажений сознания и реальности.
Из нейронауки (психология) выделяются следующие классы проявлений бессознательности: во-первых, надиндивидуальные подсознательные явления, усвоенные субъектом как членом той или иной социальной группы образцы типичного для данной общности поведения, влияние которых на его деятельность актуально не осознается субъектом и не контролируется (подражание); во-вторых, неосознаваемые побудители деятельности – мотивы и смысловые установки личности. По Фрейду – это «динамическое вытесненное бессознательное», охватывающее нереализованные влечения, которые из-за их конфликта с социальными нормами изгоняются из сознания и образуют скрытые аффективные комплексы, предрасположенности к действиям, активно воздействующие на жизнь личности и проявляющиеся в непрямых символических формах (юморе, обмолвках, сновидениях).
Важное значение имеют такие феномены бессознательного в межличностных отношениях, как эмпатия (непосредственное вчувствование), проекция (не осознанное наделение человека собственными свойствами); в-третьих, неосознаваемые операционные установки и стереотипы автоматизированного поведения. Они возникают в процессе решения различных задач и опираются на прошлый опыт; в-четвертых, неосознаваемое субсенсорное восприятие: при изучении порогов ощущения диапазона чувствительности человека были обнаружены факты воздействия на таких раздражителей, о которых он не мог дать отчета.
В отличие от З.Фрейда, который рассматривал бессознательное как основной элемент психики отдельного человека, К.Г.Юнг провел четкую дифференциацию между «индивидуальным» и «коллективным бессознательным». Если «индивидуальное бессознательное» отражает личностный опыт отдельного человека и состоит из переживаний, которые когда-то были сознательными, но утратили свой сознательный характер в силу забвения или подавления, то «коллективное бессознательное» – это опыт предков, способ, которым они думали и чувствовали, способ, которым они постигали жизнь и мир.
Как «архетип», так и «коллективное бессознательное» в конечном счете, оказываются внутренними продуктами психики человека, представляя наследственные формы и идеи всего человеческого рода. Механизм биологической предопределенности и наследственности сохраняется как в том, так и в другом случае, хотя он и действует на разных уровнях человеческой психики.
Само бессознательное имеет три основных уровня: во-первых, неосознанный психический контроль человека за жизнью своего тела, координацией функций, удовлетворением простейших нужд и потребностей; во-вторых, более высокий уровень бессознательного – это процессы и состояния, которые могут реализоваться в пределах сознания, но могут перемещаться в сферу бессознательного и осуществляться автоматически и пр.; в-третьих, высший уровень бессознательного проявляется в художественной, научной, философской интуиции, играющей важную роль в процессах творчества. Бессознательное на этом уровне тесно переплетено с сознанием, с творческой энергией чувств и разума человека.
Для самосознания личности эта информация оказывается «закрытой», но она существует, поступает в мозг, перерабатывается, и на ее основе осуществляются многие действия. Неосознанное отражение, играя вспомогательную роль, освобождает сознание для реализации наиболее важных, творческих функций. Так, многие привычные действия мы выполняем без контроля сознания, бессознательно, а сознание, освобожденное от решения этих задач, может быть направлено на иные предметы.
Нейрофилософия является важнейшим научным направлением философии, так как тесно связан именно с философией человека, представляющая собой синтез философского, культурологического, психологического, педагогического, духовного, социологического и др. смыслосодержащих аспектов бытия человека, а также множества смыслов и направлений человекознания свойственных современному обществу, выступает теорией и практикой жизнестроения. В этом смысле философия крайне актуальна для решения проблемы человеческой реальности, целостного и адекватного понимания человека как субъекта педагогической практики и, как следствие, осмысления и выработки стратегии воспроизводства человека через систему образования.
Разноречивость, а порой и неадекватность научных знаний о человеке, существует огромное количество антропологий: социальная, биологическая, психологическая, историческая, религиозная и др., которые имеют свои версии трактовки человека. Если социология понимает человека как чрезвычайно пластичное существо, то психология ищет стабильные характеристики, вместе с тем признавая, что мотивы человеческой жизнедеятельности в значительной степени иррациональны. Если экономика акцентирует внимание на способности к рациональному выбору человека как субъекта рынка, то антропология постулирует идею совершенства человека как биологического вида.
В свою очередь разноречивость и несогласованность классических и неклассических проектов исследования человека, реализуемых материалистической философией, феноменологией, психоанализом, экзистенциальной философией, герменевтикой и др. также требуют философской рефлексии. Отсутствие должной связи философии с социальной практикой проявляется сегодня в кризисных явлениях, ставших своего рода символами нашей эпохи и охватывающих всё новые сферы человеческого бытия.
В нашу эпоху глобализации и экстропии (цифровизация, машинизация, кибернетизация, биотехнологизация и пр.) одним из самых разрушительных кризисов является кризис самого человека. М.Мамардашвили называл такой кризис «величайшей антропологической катастрофой», в результате которой происходит утрата человеком контроля над искусственным и техническим мирами, утрата ведущей роли человеческой субъективности, крах веры в надёжность человеческого разума, а как следствие, и потеря веры в устойчивость мира.
О.А.Базалук (2015) пишет: «Человек – это представитель разумной материи Земли, деятельность которого с каждым поколением из планетарной силы переходит на уровень космической силы. Его функция – бескорыстное и самоотверженное служение во имя будущего цивилизации, при обязательном условии доминирования интересов общества над личными интересами». Как говорил Х. Плеснер, «человек оказывается поставленным на ничто». В этом аспекте, значение нейрофилософии, осмысливающие негативные последствия неконтролируемой технологизации человечества трудно переоценить, так как именно это направление науки отвечает за качество осмысление главного свойства человека – его сознания.
Разумеется, философия человека как методология человекознания в подобной ситуации вряд ли может ограничиваться рамками «чистой» теории, концентрируя усилия сугубо на вершинах метафизического мышления, хотя и трудно, безусловно, переоценить роль фундаментальных философских исследований для научного и вненаучного познания природы, общества, материально-производственной и социально – преобразовательной практики. Условиями развития не только философии человека, но и нейрофилософии в современную эпоху должна явиться ориентация на практику человекостроения.
По мнению А.П.Валицкой, в последней четверти XX в. философия обращается к осмыслению своей пригодности в сферах социокультурной практики, её внимание смещается от метафизической проблематики к антропо-аксиологическим ракурсам осмысления реальности. В первых десятилетиях ХХI в. такая тенденция лишь усилилась и акцент постепенно смещается к социально-психологическим ракурсам бытия человека и окружающей реальности. Предметом философствования становится не только сущее с его причинностью, не столько конечная цель как предел и совершенство, сколько наличная процессуальность бытия, его принципиальная изменчивость, конкретика существования.









