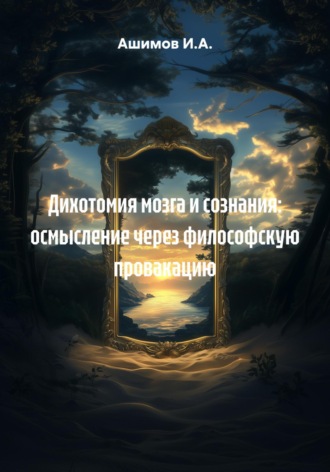
Полная версия
Дихотомия мозга и сознания: осмысление через философскую провакацию
В плане концептуализации знаний, прежде всего, вызывает интерес предложенная мною метафора мозга как паразита (Х-онтобионта) – провокационная, но эффективная в плане осмысления и разрушения традиционной дихотомии «мозг – носитель сознания». Через повествование мною моделируется эволюционный сценарий, в котором мозг – чужеродный симбиот, внедрившийся в тело простейшего в процессе биологической истории. Естественно, такое в природе никак не может быть. Но интересен процесс рассуждения ученых, взлет их научной мысли, упорство в доказательствах и прояснениях сути выдвинутой концепции.
В плане философизации знаний в романе размышляются: во-первых, границы научного знания, роли ученого в мире, этике исследования и последствиях теоретических сдвигов; во-вторых, используется эпистемологическая провокация: «а что если…» как философское основание нового знания; в-третьих, образ мозга-паразита как экзистенциального Х-паразита – это и символ внутреннего конфликта человека, и метафора искусственного «вторжения разума» в природу.
На основании анализа мы приходим к мысли о том, что если провести междисциплинарный срез самой проблемы сознание-мозг, то становится ясным следующее подходы к мозгу и сознанию, а также вклад в анализ параллельного развития мозга и сознания: 1) Философия раскрывает проблему психофизического дуализма и монизма, когда авторская модель: мозг как инородная субстанция, а также концепт мозга как паразита, то есть «второго субъекта». 2) Информатика, как известно, сознание рассматривает как переработку и хранение информации, а потому когда мозг рассматривается как чужой информационный процессор, внедренный для управления телом ей становится непонятной. 3) Медицина рассматривает мозг как физиологический орган, сознание – функция. Естественно возникает конфликт между нейрофизиологией и феноменологией, что является провокацией естественнонаучной догмы. 4) Социология признает сознание как социальный конструкт, мозг – это средство взаимодействия.
Новое в науке, а тем более в философии всегда воспринимается не линейно, то есть проблематично. В книге заложен конфликт интересов, а потому выстроена сюжетная линия, демонстрирующая то, что идеи могут быть приняты/отторгнуты научным сообществом. Психология понимает сознание как субъективный опыт, а мозга как его носителя. Книга и здесь вносит сумятицу, задаваясь вопросом: что является источником Я-сознания: мозг или внешнее внедрение? В итоге происходит нарушение стабильной картины «я». Между тем, именно на этой завязке в настоящее время идет бурная научная и философская дискуссия.
Наверняка, интересно было вложить в личность молодого, но упорного исследователя (Каримов) версию: эволюция мозга как Х-паразита. В чем характер и суть этой версии: во-первых, парадоксальность, так как отрицает эволюцию как прогрессивное развитие биологического вида; во-вторых, провокационнность, так как вводит метаорганизм (Х-онтобионт) как независимую форму жизни; в-третьих, философичность, так как ставит под сомнение идентичность сознания и мозга. Ключевые идеи заключаются в следующем: во-первых, мозг = паразит, захвативший тело организма ради своей эволюции; во-вторых, эволюция – это не развитие вида, а развитие самого мозга, как эндоинвазивной сущности; в-третьих, сознание возникает не как функция мозга, а как вторичная реакция организма на чужеродную структуру.
Разумеется, само по себе первичное обнаружение высоко в заповедных горах профессором Набиевым мозгоподобного клеша иксодового класса – это конечно же наивно, но как первотолчок для развития научной версии или гипотезы представляется интересным. В научное среде можно увидеть все три типа ученых, о которых говорится со страниц романа. К примеру фанат от науки (Набиев) – это идеалист, одержимый какой-либо научной идеей, как бы инициатор научной революции. Фрилансер-ученый – это ученый современного толка, независимый исследователь, понимающий условия рынка и менеджмента науки (Салимов). В науке бывают возмутители спокойствия или иначе провокаторы, нарушающие статус-кво в научном коллективе (Каримов). Несмотря на свой опыт и знания, такие ученые отличаются настырностью в продвижении своих идей, гипотез, ломая шаблоны научного мышления.
Признаться, было интересно рассмотреть версию икс-паразита в аспекте различных отношений ученых, а в целом реакции науки. В отношении научного сообщества: во-первых, скепсис и насмешка – со стороны институционализированной науки и официальных структур (через фигуру милиционера, Салимова, директора института, председателя профильного отделения академии наук); во-вторых, тайная поддержка и сочувствие – от младших ученых, как Каримов, которые чувствуют правду в интуиции, понимая, что выдвинутый концепт «икс-паразита»: во-первых, это форма – мозгоподобный клещ с хвостом-спинным мозгом; во-вторых, это функция – персонификация мозга как автономного существа; в-третьих, имеет мифологическое значение, так как символ вторжения чуждого сознания (инопланетного/искусственного) в настоящее время преподностися в медиа как бум.
Важно обратить внимание читателей и коллег по цеху науки и философии на динамику научных гипотез на примере Х-паразита. Модель развития гипотезы: во-первых, это индивидуальное наблюдение (находка клеща); во-вторых, это во многом еще незрелая гипотеза (вымысел) – аналогия мозга и клеща; в-третьих, это научный скепсис – осмеяние, недоверие, отторжение, что ожидает любое новое в науке; в-четвертых, это сопротивление системы или иначе институциональный прессинг по принципу «такое не бывает в принципе»; в-пятых, это эволюция идеи – самостоятельное развитие в умах одиночек.
При таком отношении к ученым, выдвигаемым те или иные идеи и гипотезы, никогда не возникнет серьезная научная работа. Каримова выдвигает контрверсию эволюции: не организм развивает мозг, а мозг – организм. Его идеи – пример трансдисциплинарной концептуализации, граничащей с метафизикой. Исходя из сказанного со страниц романа, наверняка, хотелось высказать следующее: интервал абстрации на счет икс-паразита так или иначе расширяет горизонты мышления о природе сознания и мозга, включает научные и метафизические элементы, разрушая границу между научным и художественным знанием, а также создает интеллектуальный вызов академической догматике.
Можно утверждать, что роман выполняет функции философской провокации, научного фантазирования и популяризации нетривиальных идей о человеческой природе, сознании и смысле эволюции. При этом обращаю внимание на сравнение теорий мозга и сознания с учетом концепции «икс-паразита» (Х-онтобионта) и позиций различных дисциплин: Классическая позиция философии дуализм: мозг – материя, сознание, тогда как концепт Каримова считает, что мозг – это автономный агент, сознание – продукт адаптации тела к нему. То есть концепт переворачивает дуализм: сознание – не функция мозга, а его антагонист.
Информатика считает, что сознание – есть результат обработки информации мозгом, тогда как каримовская концепция утверждает, что мозг – чужой вычислитель, сознание – побочный эффект вмешательства. Иначе говоря, сознание как побочный «шум» чуждого вычислительного устройства. Психология считает, что сознание формируется на основе психофизиологических процессов, а Каримов преподносит идею о том, что сознание = ответ тела на инвазию «мозга-клеща». Так или иначе происходит переосмысление роли Я: человек – не субъект, а носитель мозга. Социология рассматривает сознание как продукт социокультурного взаимодействия, тогда как Каримов полагает, что мозг – вне социума, а сознание = способ сопротивления телесности. Иначе говоря подчеркивается радикальный индивидуализм: социум – вторичен к «разуму» мозга.
Интересна позиция медицины, которая утверждает, что мозг – анатомо-физиологический центр сознания, Каримов же предполагает, что мозг – паразит, организм – его носитель. То есть концепция нарушает биомедицинскую парадигму, считая, что мозг не интегративный, а чуждый. Нейронаука с самого начала утверждает, что сознание связано с активностью нейросетей, синапсов и коры мозга. В отличие от нее каримовская версия полагает, что активность мозга – это не что иное как «жизнедеятельность» независимого агента. Происходит смещение акцента от нейрофизиологии к биологической мимикрии. Эволюционная биология утверждает, что мозг – есть результат адаптации вида в борьбе за выживание, Каримов же говорит, что эволюцию нужно рассматривать как результат инвазии Х-онтобионта. Иначе говоря отрицается «естественный» отбор мозга, приписывая ему паразитарный путь.
Естественно, читателей и ученых интересует концептуальные следствия при следующей постановке вопросов: что есть мозг? Классическая наука считает мозг центром управления телом, а Каримов – таким центром является паразит-носитель сознания. Что есть сознание? Наука утверждает, что это функция мозга, а Каримов – продукт борьбы организма с чужеродной сущностью. Что есть эволюция? Если наука считает это адаптивным биопроцессом, то Каримов – программой самовоспроизводства мозга. Кто субъект – мозг или тело? Каримов полагает, что мозг как доминирующий автономный субъект, а не как часть мозга. Откуда появляется разум? Из «заражения» симбиотом-онтобионтом – полагает Каримов, вопреки утверждения науки о том, что разум появляется из усложнения нейросетей. Можно ли «вылечить» сознание? Удалить «икс-паразита» = потерять разум – таково суждение Каримова.
Интерес вызывает возможные проблемы границы сознания человека и животных – есть проблема границ мозга и нейросети. Что думают об этом ученые-философы, айти-специалисты, нейробиологи, гуманологи? Ставя такие вопросы в книге словами Каримова, Набиева, Салимова полагаю, что любые рассуждения о границе между сознанием человека и животных как о проблеме границ мозга и нейросети представляет собой довольно смелую философскую постановку, объединяющую подходы нескольких дисциплин. Если граница между человеческим и животным сознанием не абсолютна, возможно, она проходит не по линии «души», «разума» или «языка», а по уровню сложности, структуры и архитектуры нейросетей. То есть: нечто становится «человеческим» не потому, что оно обладает душой, а потому, что его мозг (или сеть) превышает определённый порог организованности.
Важно было осветить позиции разных дисциплин. Философы сознания, к каковым относят Т.Нагеля. В своей книге «Каково быть летучей мышью?» очерчивает эпистемологическую границу, ставя под сомнение возможность полного понимания сознания других существ даже при наличии полной нейрофизиологической картины. Д.Дэннет считает, что не существует центральной точки в мозге, где «происходит сознание». Скорее, это распределённый эффект нейросети. Ж.Делёз и Ф.Гваттари: рассматривают мозг как «машину», сознание – как эффект социального кодирования, тела без органов. Граница между человеком и животным – социально и культурно сконструирована. Итак, философы склонны рассматривать границу либо как структурно недостижимую, либо как произвольно заданную (культурно, лингвистически).
Нейробиологи в лице Г.Бернс показывает, что у собак активируются те же области мозга, что и у людей при эмоциональной привязанности. Дж.Леду проводит различие между «сознательным страхом» и «реакцией угрозы», подчёркивая, что многие животные могут демонстрировать сложные поведенческие паттерны без субъективного осознавания. Г.Эдельман и Дж.Тонони показывают, что сознание появляется при достижении определенного уровня интеграции информации в сети. Итак, сознание – градуальное явление, зависящее от уровня сложности и интеграции нейросети. Граница между человеческим и нечеловеческим – не резкая, а континуальная.
Ну, а каковы суждения специалистов по нейронике? Я.Лекун, Дж.Хинтон считают, что достижение искусственного сознания возможно при создании глубоких, адаптивных и самонаблюдающих нейросетей. И.Маск видит интерфейс «мозг-компьютер» как способ перешагнуть границу мозга и встроить человека в информационную нейросеть – сознание как расширяемая платформа. Р.Курцвейл считает, что граница между биологическим и машинным сознанием будет стёрта к середине XXI в. (сингулярность). Сознание – продукт структуры, а не материи. Так или иначе, ИИ-эксперты рассматривают мозг как нейросетевую архитектуру, границу – как технический и вычислительный порог.
Гуманологи / философы постгуманизма утверждают, что сознание – не собственность мозга, а событие, возникающее на стыке тела, среды и технологии. По К.Хэйлесу, граница сознания – в границах телесности, и она размывается в киберпространстве, а по Б.Латурэй, граница между человеком, животным и машиной – социальный артефакт, а не онтологический факт. Отсюда втекает заключение о том, что сознание – технологико-культурный конструкт, мозг – лишь одна из возможных инфраструктур.
Переход границы – не катастрофа, а флуктуация системы. Если принять, что граница сознания – есть граница нейросети, тогда: во-первых, человеческое сознание – не уникально, а предельный случай нейронной организации; во-вторых, машины и животные могут достичь сознания при соблюдении архитектурных и интеграционных условий. Итак, вопрос «что значит быть человеком» сдвигается из биологии в онтологию нейросвязности и когнитивной плотности, а сознание – это не отражение, а резонанс мозга, дошедшего до порога самонаблюдения.
§4. Фантастика как метод верификации невозможного. Именно на основании романа «Икс-паразит» мною написан и издан трехтомник «Нейрофилософия» (Ашимов И.А., 2024), в которой можно проследить видение процесса формирования теории нейронного рабочего пространства, а также разрешение вопросов субъективной реальности и мозга. В этом аспекте, продолжение идеи Каримова, поиска истины Набиева, системность Салимова – все это есть как литературный нарратив проблемы разрешения «Сознание / Мозг».
«Из того, что мне – или всем – кажется, что это так, не следует, что это так и есть. Но задайся вопросом, можно ли сознательно в этом сомневаться?», – писал Людвиг Витгенштейн. Согласно естественного отбора в процессе эволюции выживают выдающиеся особи за счёт гибели слабых. Иначе говоря, более адаптированные, то есть в биологическом плане более «информированные», «сообразительные» и «безжалостные», добиваются приоритетов в развитии, питании, спаривании, размножении. А почему, на основании универсализма приспособительных механизмов, нельзя допустить мысль о том, что на каком-то вираже эволюции, отдельные простейшие организмы получил приоритет, прежде всего, за счет своего умения накапливать и пользоваться информацией.
В моем (Ашимов И.А.) научно-фантастическом романе «Икс-паразит», мысленные эксперименты ученых-биологов (Каримов, Набиев, Салимов) вокруг концепции «мозг-паразит» / «тело-хозяин» превращается в долгий и извилистый путь познания с немыслимыми зигзагами и всевозможными отступлениями в теоретических конструктах эволюции животного мира. Кто знает, возможно, тот самый простейший случайно или намеренно с какой-то целью занесен к нам из других Галактик. Молодой ученый Каримов размышляет на счет некоего существа – «мозга-паразита», которого он обозначил, как Х-онтобионт («онтос» – сущее, «бионт» – организм).
Подтекст романа – эволюция Х-онтобионта, что, по сути, является вымыслом, созданном на основе единичного полубредового наблюдения Набиева в горах Саркента, доселе неизвестного хвостатого клеща, удивительно схожего с головным и спинным мозгом. Но… интересен процесс осмысления значимости головного мозга, его эволюции, деятельности, взаимосвязи с телом, а также ныне с новыми когнитивными технологиями, в аспекте проблем-последствий. В этом плане, наверное, нельзя было изображать личность ученых бледной тенью на фоне проблем, а нужно было приоткрыть дверь не только в научную их деятельность, но и вникнут в стиль их жизни, работы, мышления.
По сути, гипотеза о Х-онтобионте – это провокация в научном мире, а потому имеет значение, как отнеслись к ней профильное научное сообщество. Речь идет о разбросе мнений по поводу возможного вектора эволюции животного мира, а также об особых стилях жизнедеятельности ученых на современном этапе. Ученые различных отраслей, их многочисленные диалоги, почти протокольные обсуждения на научных форумах и собраниях – это не столько фабульные элементы романа, сколько своеобразная технология «продвижения» в умах и сердцах проблем эволюционного процесса, формирования мозга, взаимоотношения его с сознанием, подсознанием.
Итак, в подтексте романа две необычных провокации в научном мире. Первая – это новая подстрекательная версия вектора развития эволюции животного мира, когда эволюция – есть эволюция не вида, а Х-онтобионта. Вторая – формирование нового мира ученых-индивидуалистов (Каримов – ученый-одиночка, Набиев – ученый-отшельник, Салимов – ученый-фрилансер) в противовес коллективной науке, когда в интересах результата науки не нужно испытывать судьбу отдельных ученых-индивидуалистов, отпустив их на «вольные хлеба».
Парадоксальность эволюционной версии ученых состоит в ведущей роли икс-паразита как первопричинность. В эволюционном процессе для отражения динамики сохранения, при изменении среды обитания, его необходимо связать с элементом проникновения элементов, как «живущего», так и «не живущего» внешней среды, в «живущее». Нужно искать ответ на вопрос – сохранение каких конкретных многообразий может обеспечить существование, развитие вида и его эволюцию, не наблюдаемый феномен, но «вещь в себе», невидимый икс-существо? Означает ли это, что эволюцию как развитие, и в самом деле, отражают изменения феномена или же это отражение вторично, а первично сохранение того самого икс-существа?
Вопросы «сознание / мозг», в том числе и в эволюционном аспекте их взаимосвязи и взаимофункции является не только предметом нейронауки – нейробиологии, нейрофизиологии, нейрохимии, нейропротезирования, нейротрансплантации, но и одним из предметов нейрофилософии. Что такое нейрофилософия? По мнению М.Эпштейна, нейрофилософия дает один из самых интересных срезов междисциплинарной информации, раскрывающий понимание человеческого развития. На прикладном личностном уровне нейрофилософия помогает понять, как пользоваться ограниченным физическим ресурсом нейросистемы, которая как раз и обеспечивает все наши сознательные способности.
Нейрофилософия – один из самых удивительных междисциплинарных векторов. Он и концептуализирует, и обращен к практическому применению. Обращает внимание следующие доводы в пользу нейрофилософии: во-первых, человек живет и работает, основываясь на основе той информации, которая у него уже есть. Нужно убрать фоновый мусор, держать фокус и прямо и осознанно думать о предмете осмысления; во-вторых, если человеку не хватает мотивации двигаться к цели, то это означает, что в его прогнозе не хватает информации. Мозг работает по принципу «прогноз – мотивация». Если недостаточно информации, то цель будет искажена; в-третьих, человек не может адекватно прогнозировать будущее, потому что для него слишком больно раскрутить самый плохой сценарий. Чтобы это сделать, мысль-раздражитель должна очень много раз ударить в центр боли; в-четвертых, чтобы чего-то достичь, от чего-то нужно отказаться. Когда человек двигается вперед к своим целям, ему нужно понимать, откуда он на это будете брать ресурсы, причем прямо внутри своей головы; в-пятых, человеку нужно перезапустить принцип последовательности или автоматизм в стиле алгоритмического мышления.
В свое время Дж.Эдельман разработал «теорию сознания», основанную на обязательном увязывании теоретических положений с экспериментальными разработками. По автору, мысленные эксперименты должны быть полностью совместимыми с известными на сегодняшний день научными наблюдениями из любой области исследования и прежде всего с данными наук о мозге. Что они дают? Дают абстрагированные допущения: во-первых, физическое допущение – постулирование о том, что законы физики не нарушаются, что духи, призраки не допускаются; во-вторых, эволюционное допущение – сознание возникло как фенотипическое свойство в некоторой точке эволюции видов, а до этого оно не существовало; в-третьих, квалиа-допущение – сознание повышало приспособляемость, оно является «реально действующим», оно – не эпифеномен. По автору, если речь идет о сознании, то оно не должно сводиться к квалиа – лишь одно из проявлений осознаваемых психических переживаний, существующих в контексте сложной структуры сознания.
Сознание, как хорошо известно, включает не только чувственные отображения и переживания, с которыми обычно связывается понятие квалиа, но и мысли высокой степени абстракции, логические решения, волевые интенции, переживание нравственного долга и многие другие субъективные состояния, не сводимые к квалиа и в которых оно не является существенным компонентом в определенном интервале сознательного переживания. Квалиа – действительно, индивидуально и уникально по своему содержанию, выражается в виде отчета от первого лица. «То, что прямо и непосредственно испытывается как квалиа одним индивидом, не может в полной мере разделяться другим индивидом, находящимся в роли наблюдателя». В основе этой нашей способности лежат мозговые механизмы категоризации сенсорных сигналов, чувственных образов и состояний.
Глава 2.
Мозг, сознание и их взаимоотношения
как предмет исследования нейронауки
и нейрофилософии
§1. О серии книг «Нейрофилософия». Нужно отметить, что в эпоху глобализма и экстропии нейронаука развивается быстрыми темпами, приобретая все большую практическую роль не только в сферах государственной безопасности и предотвращения глобальных угроз современности, но и во всех сферах жизнедеятельности человека и социума. Впечатляют развитие нейрокомпьютерных интерфейсов, нейропротезирования, нейротрансплантации. Большая потребность в основательном теоретическом базисе нейронауки связана и с тем, что в ней накопилось немалое число претендующих на объяснение создания концепций, которые зачастую слабо соотносятся или вовсе не соотносятся друг с другом и нередко представляют собой лишь эмпирические обобщения или построения, далекие от уровня подлинно теоретического объяснения. Важно отметить, что систематический анализ этих многочисленных концепций составляет специальную и весьма актуальную задачу нейрофилософии. В некоторых из этих концепций, тем не менее, содержатся важные результаты, способные внести существенный вклад в разработку проблемы «Сознание / мозг».
Данная проблема находится в фокусе интересов ряда специфических направлений современной философии: во-первых, аналитической философии; во-вторых, НФ-философии; в-третьих, биофилософии или иначе антропофилософии; в-четвертых, киберфилософии; в-пятых, моральной философии. На сегодня накоплены огромный объем информаций, выработаны множество концепций и теорий, которых следует осмыслить и обобщить. Основными вопросами, относимые к нейрофилософии, объединяются классической проблемой «Сознание / мозг».
Нейрофилософия – это обширная область философских и теоретико-методологических проблем сознания в проблемном поле нейрофизиологии и когнитивной науки (антропология, философия, психология, психиатрия, нейрохирургия, психофармакология и пр.). Разумеется, интересы нейрофилософии связаны не только с этой проблемой в ее общем, традиционном значении, но и со специализированными исследованиями когнитивных процессов с позиций нейронауки: во-первых, измененные состояния сознания; во-вторых, когнитивных искажений сознания и реальности; в-третьих, взаимосвязи языка, мышления межличностных коммуникаций; в-четвертых, феноменов веры, творчества и манипуляции и; в-пятых, ряда вопросов интуиции, морали, этики, выбора решений.
Очевидно то, что разработке такой палитры проблематики первостепенная роль принадлежит технологиям: информатизации, цифровизации, кибернетизации, биотехнологизации, киборгизации, виртуализации, от которых зависит протезирование, трансфер и переформатирование сознания. Все это указывает на исключительные трудности, которые встают перед теми, кто пытается выстроить теоретически обоснованные нейронаучные объяснения сознания и, прежде всего, связи явлений сознания с мозговыми процессами.
Итак, нейрофилософия – это крайне сложная междисциплинарная, трансдисциплинарная научное направление, успешная разработка которого зависит, прежде всего, от философски профессионального эпистемологического и методологического анализа условий, средств и способов искомого теоретического объяснения.
Надо подчеркнуть, что проблемы «Сознание / мозг» так или иначе являются главным исходным пунктом нейрофилософии, пред которой стоит задача – осуществить переход от индивидуально-субъективного опыта к интерсубъективным, общезначимым утверждениям. Но главная трудность изучения проблемы «Сознание / мозг» связана с тем, что сознание обладает неотъемлемым специфическим качеством субъективной реальности, а потому описанием явлений субъективной реальности (в понятиях содержания, смысла, ценности, цели, воли, интенциональности) и описанием физических явлений (в понятиях массы, энергии и пр.) нет прямых логических связей. Чтобы установить такие связи, необходим создать концептуальный мост.









