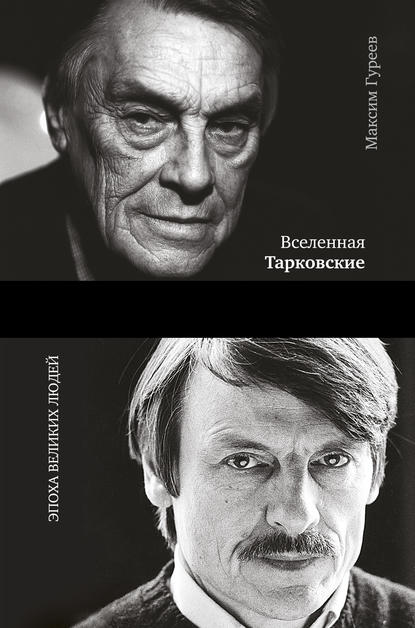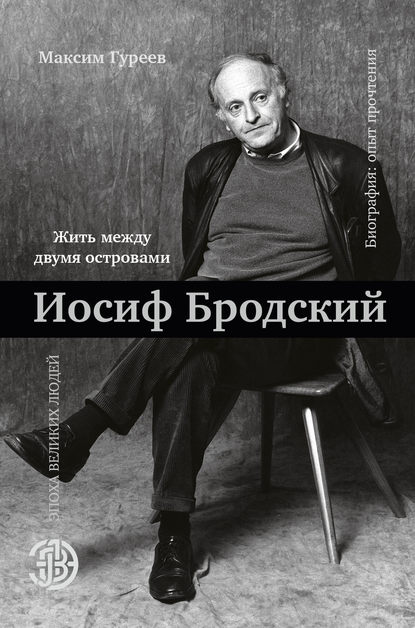Полная версия
Сергей Есенин. Подлинные воспоминания современников
В Харькове жил Велимир Хлебников. Решили его проведать. Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраца и тюфяка, в другом углу табурет. На нем обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шило.
Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него ботинок.
Он встал нам навстречу и протянул руку с ботинком.
Я, улыбаясь, пожал башмак. Хлебников даже не заметил.
Есенин спросил:
– Это что у вас, Велимир Викторович, сапог вместо перчатки?
Хлебников сконфузился и покраснел ушами – узкими, длинными, похожими на спущенные рога.
– Вот… сам сапоги тачаю… Садитесь…
Сели на кровать.
– Вот…
И он обвел большими серыми глазами, чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, пустынный квадрат, оклеенный выцветшими обоями.
– …Комната вот… прекрасная… только не люблю вот… мебели много… лишняя она… мешает.
Я подумал, что Хлебников шутит.
А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку остриженные после тифа.
Голова у Хлебникова узкая и длинная как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым.
– …И спать бы вот можно на полу… а табурет нужен заместо стола… я на подоконнике… пишу… керосина у меня нет… вот и учусь в темноте… писать… всю ночь сегодня… поэму…
И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися.
Невозможно было прочесть ни одного слова.
– Вы что же, разбираете это?
– Нет… думал вот, строк сто написал… а когда вот рассвело… вот и…
Глаза стали горькими:
– Поэму жаль… вот… Ну, ничего… я научусь в темноте…
На Хлебникове длинный сюртук с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками.
Подкладка пальто служит простыней.
Хлебников смотрит на мою голову – разделенную ровным, блестящим, как перламутр, пробором и выутюженную жесткой щеткой:
– Мариенгоф, мне нравится ваша прическа… я вот тоже такую себе сделаю…
Есенин говорит:
– Велимир Викторович, вы ведь Председатель Земного Шара. Мы хотим в городском Харьковском театре всенародно и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание.
Хлебников благодарно жмет нам руки.
Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал.
Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в Председатели.
После каждого четверостишия, произносит:
– Верую.
Говорит «верую» так тихо, что мы только угадываем слово. Есенин толкает его в бок:
– Велимир, говорите громче. Публика ни черта не слышит.
Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: «Но при чем же здесь публика?»
И еще тише, одним движением рта, повторяет:
– Верую.
В заключение, как символ Земного Шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера – Бориса Глубоковского.
Опускается занавес.
Глубоковский подходит к Хлебникову:
– Велимир, снимай кольцо.
Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину.
Глубоковский сердится:
– Брось дурака ломать, отдавай кольцо!
Есенин надрывается от смеха.
У Хлебникова белеют губы:
– Это… это… Шар… символ Земного Шара… А я – вот… меня… Есенин и Мариенгоф в Председатели…
Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель Земного Шара Хлебников, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет светлыми и большими, как у лошади, слезами.
Перед отъездом в Москву отпечатали мы в Харькове сборничек «Харчевня зорь».
Есенин поместил в нем «Кобыльи корабли», я – «Встречу», Хлебников – поэму и небольшое стихотворение:
ГолгофаМариенгофа.ГородРаспорот.ВоскресениеЕсенина.Господи, отелись,В шубе из лис.30
В пасхальную ночь на харьковском бульваре, вымощенном человеческой толпой, читали стихи.
Есенин своего «Пантократора».
В колокольный звон вклинивал высоким, рассекающим уши голосом:
Не молиться тебе, а лаятьсяНаучил ты меня, господь.Толпа в шлемах, кепках и картузах, подобно огромной черной ручище, сжималась в кулак.
А слова падали, как медные пятаки, на асфальт.
И за эти седины кудрявые,За копейки с златых осин,Я кричу тебе: «К черту старое»,Непокорный разбойный сын.Когда Есенин кончил, шлемы, кепки и картузы подняли его на руки и стали бросать вверх – в пасхальную ночь, в колокольный звон.
Хорошая проверка для стихов.
А у Гоголя была еще лучше.
Старый большевик М. Я. Вайнштейн рассказал мне следующий случай.
В Петропавловской крепости его соседом по камере был максималист. Над максималистом шли последние дни суда, и тюрьма ожидала смертного приговора. Воздух становился твердым, как камень, а мысли в голове ворочались тупо и тяжело, как жирные свиньи.
И вдруг: из соседней комнаты, от максималиста, через толстую петропавловскую стену – широкий, раскатистый смех. Такой, что идет от пупа.
Смех перед виселицей пострашнее рыданий.
Вайнштейн поднял тревогу: казалось, безумие опередило смерть.
Пришел надзиратель, заглянул в камеру к максималисту, развел руками, недоуменно покачал головой и сообщил:
– Читает.
Тогда Вайнштейн стуками оторвал соседа от книги и спросил:
– В чем дело?
Сосед ответил:
– Читаю Гоголя. «Ночь под Рождество». Про кузнеца Вакулу. Сил моих нет, до чего смешно.
31
Из всей литературы наименее по душе была нам – литература военного комиссариата.
Сначала читали внимательно все мобилизационные приказы. Читали и расстраивались. Чувствовали непрочность наших освободительных бумажек. Впоследствии нашли способ более душеспокойный – не читать ни одного. Только быстрее пробегали мимо свежерасклеенных.
Зажмурили глаза, а вести стали ползти через уши.
С перепугу Есенин побежал к комиссару цирков – Нине Сергеевне Рукавишниковой, жене поэта.
Циркачи были освобождены от обязанности и чести с винтовкой в руках защищать республику.
Рукавишникова предложила Есенину выезжать верхом на коне на арену и читать какую-то стихотворную ерунду, сопровождающую пантомиму.
Три дня Есенин гарцевал, а я с приятельницами встречал и провожал его громовыми овациями.
Четвертое выступление было менее удачным.
У цирковой клячи защекотало в ноздре, и она так мотнула головой, что Есенин, попривыкнувший к ее спокойному нраву, от неожиданности вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто-мортале, растянулся на желтой арене.
– Уж лучше голову сложу в честном бою, – сказал он Нине Сергеевне.
С обоюдного согласия полугодовой контракт был разорван.
Днем позже приехал из Туркестана Почем-Соль. Вечером распили бутылку кишмишевки у одного из друзей. Разошлись поздней ночью.
На улице догорланивали стихи и прозу о «странностях любви».
Есенин вывез из Харькова нежное чувство к восемнадцатилетней девушке с библейскими глазами.
Девушка любила поэзию. На выпряженной таратайке, стоящей среди маленького круглого двора, просиживали они от раннего вечера до зари. Девушка глядела на луну, а Есенин в ее библейские глаза.
Толковали о преимуществах неполной рифмы перед точкой, о неприличии пользоваться глагольной, о барабанности составной и приятности усеченной.
Есенину невозможно нравилось, что девушка с библейскими глазами вместо «рифмы» – произносила «рыфма».
Он стал даже ласково называть ее: Рыфмочка.
Горланя на всю улицу, Есенин требовал от меня подтверждения перед Почем-Солью сходства Рыфмочки с возлюбленной царя Соломона, прекрасной Суламифью.
Я, зля его, говорил, что она прекрасна, как всякая еврейская девушка, только что окончившая в Виннице гимназию и собирающаяся на зубоврачебные курсы в Харьков.
Он восхвалял ее библейские глаза, а я – будущее ее искусство долбить зубы бормашиной.
В самом разгаре спора неожиданно раздался пронзительный свисток, и на освещенном углу появились фигуры милиционеров.
Из груди Есенина вырвалось как придыхание:
– Облава!
Только вчера он вернул Рукавишниковой спасительное цирковое удостоверение.
Раздумывать долго не приходилось.
– Бежим?
– Бежим!
Пятки засверкали. Позади дребезжали свистки и плюхались тяжелые сапоги.
Почем-Соль сделал вслед за нами прыжков двадцать. У него заломило в спине, в колене, слетела с головы шапка, а из раскрывшегося портфеля, как из голубятни, вылетели бумаги.
Схватившись за голову, он сел на мостовую.
Срезая угол, мы видели, как пленили его и повели милиционеры.
А между нами и погоней расстояние неизменно росло.
У Гранатного переулка Есенин нырнул в чужие ворота, а я побежал дальше. Редкие ночные прохожие шарахались в стороны.
Есенин после рассказывал, как милиционеры обыскивали двор, в котором он прятался, как он слышал приказ стрелять, если обнаружат, и как он вставил палец меж десен, чтобы не стучали зубы.
С час просидели мы на кроватях, дожидаясь Почем-Соли.
А он явился только в десятом часу утра. Бедняга провел ночь в милиции. Не помогли и мандаты с грозными подписями и печатями.
Ругал нас последними словами:
– Чего, олухи, побежали… Вшей из-за вас, чертей, понабрался. Ночь не спал. Проститутку пьяную в чувство приводил. Бумажник уперли…
– А мы ничего себе – спали… на мягкой постельке.
– Вот тебе, Почем-Соль, и мандат… а еще грозишь: «Имею право ареста до тридцати суток!» А самого в каталажку… пфф…
– Вовсе не «пфф»!.. А спрашивали: «Кто был с вами?», говорю: «Поэты Есенин и Мариенгоф».
– Зачем сказал?
– А что же, мне всю жизнь из-за вас, дьяволов, в каталажке сидеть?
– Ну?
– Ну, потом: «Почему побежали?» – «Потому, – отвечаю, – идиоты». Хорошо еще, что дежурный попался толковый: «Известное дело, – говорит, – имажинисты», и отпустил, не составив протокола.
Почем-Соль вез нам из Туркестана кишмиш, урюк, рис и разновсякого варенья целые жбаны.
А под Тулой заградительный продовольственный отряд, несмотря на имеющиеся разрешения, все отобрал.
«Заградилка» та и ее начальник из гусарских вахмистров – рыжий, веснушчатый, с носом, торчащим, как шпора, – славились на всю Россию своей лютостью.
<…>
44
Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен.
На дню спросит раз пятьдесят:
– Люэс, может, а?.. а?..
Однажды отправился даже в Румянцевку вычитывать признаки страшной хворобы.
После того стало еще хуже – чуть что:
– Венчик Венеры!
Когда вернулись они с Почем-Солью из Туркестана, у Есенина от беспрерывного жеванья урюка стали слегка кровоточить десны.
Перед каждым встречным и поперечным он задирал губу:
– Вот кровь идет… А?.. не первая стадия?.. А?..
Как-то Кусиков устроил вечеринку. Есенин сидел рядом с Мейерхольдом.
Мейерхольд ему говорил:
– Знаешь, Сережа, я ведь в твою жену влюблен… в Зинаиду Николаевну… Если поженимся, сердиться на меня не будешь?..
Есенин шутливо кланялся Мейерхольду в ноги:
– Возьми ее, сделай милость… По гроб тебе благодарен буду.
А когда встали из-за стола, задрал перед Мейерхольдом губу:
– Вот… десна… тово…
Мейерхольд произнес многозначительно:
– Да-а…
И Есенин вылинял с лица, как ситец от июльского солнца.
Потом он отвел в сторону Почем-Соль и трагическим шепотом сообщил ему на ухо:
– У меня сифилис… Всеволод сказал… А мы с тобой из одного стакана пили… значит…
У Почем-Соли подкосились ноги.
Есенин подвел его к дивану, усадил и налил в стакан воды:
– Пей!
Почем-Соль выпил. Но скулы продолжали прыгать.
Есенин спросил:
– Может, побрызгать?
И побрызгал.
Почем-Соль глядел в ничто невидящими глазами.
Есенин сел рядом с ним на диван и, будто деревянный шарик из чашечки бильбоке, выронил с плеч голову на руки.
Так просидели они минут десять. Потом поднялись и, волоча ступни по паркету, вышли в прихожую.
Мы с Кусиковым догнали их у выходной двери.
– Куда вы?
– Мы домой… у нас сифилис…
И ушли.
В шесть часов утра Есенин расталкивал Почем-Соль:
– Вставай… К врачу едем…
Почем-Соль мгновенно проснулся, сел на кровать и стал в одну штанину подштанников всовывать обе ноги.
Я пробовал шутить:
– Мишук, у тебя уже начался паралич мозга!
Но, когда он взъерошил на меня глаза, я горько пожалел о своей шутке.
Зрачки его в ужасе расползались, как чернильные капли, упавшие на промокашку.
Бедняга поверил.
Есенин с деланым спокойствием ледяными пальцами завязывал галстук.
Потом Почем-Соль, забыв одеть галифе, стал прямо на подштанники натягивать сапоги.
Я положил ему руку на плечо:
– Хоть ты теперь, Миша, и «полный генерал», но все-таки сенаторской формы тебе еще не полагается!
Есенин, не повернувшись, сказал, дрогнув плечами:
– А ты все остришь!.. даже когда пахнет пулей браунинга… И это – друг… Друг…
Половина седьмого они обрывали звонок у тяжелой дубовой двери с медной дощечкой, начищенной кирпичом.
От горничной, не успевшей еще заревые сны и телесную рыхлость упрятать за крахмальный фартучек, шел теплый пар, как от утренней болотной речки. В щель через цепочку она буркнула что-то о раннем часе и старых костях профессора, которым нужен покой.
Есенин бил кулаками в дверь до тех пор, пока не услышал в дальней комнате кашель, сипы и охи.
Старые кости поднялись с постели, чтобы прописать одному – зубной эликсир и мягкую зубную щетку, а другому:
– Бром, батенька мой, бром…
Прощаясь, профессор кряхтел:
– Сорок пять лет практикую, батенька мой, но такого, чтоб двери ломали… Нет, батеньки мои!.. И добро бы с делом пришли… а то… Большевики, что ли?.. То-то!.. Ну, будьте здоровы, батеньки мои…
45
Эрмитаж. На скамьях ситцевая веселая толпа. На эстраде заграничные эксцентрики – синьор Везувио и дон Мадридо. У синьора нос вологодской репкой, у дона – полтавской дулей.
Дон Мадридо ходит колесом по цветистому русскому ковру. Синьор ловит его за шароварину:
– Фи, куды пошель?
– Ми, синьор, до дому…
А в эрмитажном парке пахнет крепким белым грибом. Как-то около забора Есенин нашел две землянички.
Я давно не был в Ленинграде. Так же ли, как и в те чудесные годы, меж торцов Невского вихрявится милая нелепая травка?
Синьора Везувио и дона Мадридо сменила знаменитая русская балерина. Мы смотрим на молодые упругие икры. Носок – подобно копью – вонзен в дощатый пьедестал. А щеки мешочками, и под глазами пятидесятилетняя одутловатость.
Чудесная штука искусство.
Из гнусавого равнодушного рояля человек с усталыми темными веками выколачивает «Лебединое озеро». К нам подошел Жорж Якулов. На нем фиолетовый френч из старых драпри. Он бьет по желтым крагам тоненькой тросточкой. Шикарный человек. С этой же тросточкой в белых перчатках водил свою роту в атаку на немцев. А потом звенел Георгиевскими крестами.
Смотрит Якулов на нас, загадочно прищуря одну маслину. Другая щедро полита провансальским маслом.
– А хотите, с Изадорой Дункан познакомлю?
Есенин даже привскочил со скамьи:
– Где она… где?..
– Здесь… гхе-гхе… замечательная женщина…
Есенин ухватил Якулова за рукав:
– Веди!
И понеслись от Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк шаркать глазами по скамьям. Изадоры Дункан не было.
– Черт дери… гхе-гхе… нет… ушла… черт дери.
– Здесь, Жорж, здесь.
И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте, в Летний, в парк.
– Жорж, милый, здесь, здесь.
Я говорю:
– Ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал.
– И понюхаю. А ты – пиши в Киев цидульки два раза в день и помалкивай в тряпочку.
Пришлось помалкивать.
Изадоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал.
Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.
Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.
<…>
47
Якулов устроил пирушку у себя в студии.
В первом часу ночи приехала Дункан.
Красный хитон, льющийся мягкими складками; красные, с отблеском меди, волосы; большое тело. Ступает легко и мягко.
Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.
Маленький, нежный рот ему улыбнулся.
Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.
Она окунула руку в его кудри и сказала:
– Solotaya gоlоvа!
Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.
Потом поцеловала его в губы.
И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:
– Anguel!
Поцеловала еще раз и сказала:
– Tshort!
В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали.
Почем-Соль подсел ко мне и стал с последним отчаянием набрасывать план «спасения Вятки».
– Увезу его…
– Не поедет…
– В Персию…
– Разве что в Персию…
От Якулова ушли на заре. По пустынной улице шагали с грустными сердцами.
48
На другой день мы отправились к Дункан.
Пречистенка. Балашовский особняк. Тяжелые мраморные лестницы, комнаты в «стилях»: ампировские – похожи на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством, мавританские – на Сандуновские бани. В зимнем саду – дохлые кактусы и унылые пальмы. Кактусы и пальмы так же несчастны и грустны, как тощие звери в железных клетках зоологического парка.
Мебель грузная, в золоте. Парча, штоф, бархат.
В комнате Изадоры Дункан на креслах, диванах, столах – французские легкие ткани, венецианские платки, русский пестрый ситец.
Из сундуков вытащено все, чем можно прикрыть бесстыдство, дурной вкус, дурную роскошь.
Изадора нежно улыбнулась и, собирая морщинки на носу, говорит:
– C’est Balachoff… ploho chambre… [комната (фр.)] ploho… Isadora
fichu [косынка (фр.)] chale… achetra [она купит (фр.)] mnogo, mnogo ruska châle…
На полу волосяные тюфячки, подушки, матрацы, покрытые коврами и мехом.
Люстры затянуты красным шелком. Изадора не любит белого электричества. Говорят, что ей больше пятидесяти лет.
На столике, перед кроватью, большой портрет Гордона Крега.
Есенин берет его и пристально рассматривает. Потом будто выпивает свои сухие, слегка потрескавшиеся губы.
– Твой муж?
– Qu’est-ce que c’est mouje?
– Mari… epoux.. [муж, супруг (фр.)]
– Oui, mari… bil… Kreg pioho mouje, pioho man… Kreg pichet, pichet, travaillait [работал (фр.)], travaillait… pioho mou-je… Kreg genie [гений (фр.)].
Есенин тычет себя пальцем в грудь.
– И я гений!.. Есенин гений… Гений – я!.. Есенин – гений, а Крег – дрянь!
И, скроив презрительную гримасу, он сует портрет Крега под кипу нот и старых журналов.
– Адьу!
Изадора в восторге:
– Adieu.
И делает мягкий прощальный жест.
– А теперь, Изадора, – и Есенин пригибает бровь, – танцуй… Понимаешь, Изадора?.. Нам танцуй!
Он чувствует себя Иродом, требующим танец у Саломеи.
– Tansoui?.. Bon! [хорошо (фр.)]!
Дункан надевает есенинские кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, беспокоящая.
Апаш – Изадора Дункан. Женщина – шарф.
Страшный и прекрасный танец.
Узкое розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, судорожными пальцами сдавливает горло. Беспощадно и трагически свисает круглая шелковая голова ткани.
Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.
Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней.
И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи – безвольный и трагический.
Она танцевала.
Она вела танец.
49
А нам приятель Саша Сахаров, завзятый частушечник, уже горланил:
Толя ходит неумыт,А Сережа чистенький —Потому Сережа спитС Дуней на Пречистенке.Нехорошая кутерьма захлестнула дни.
Розовый полусумрак. С мягких больших плеч Изадоры стекают легкие складки красноватого шелка.
Есенин сует Почем-Соли четвертаковый детский музыкальный ящичек.
– Крути, Мишук, а я буду кренделя выделывать.
Почем-Соль крутит проволочную ручку. Ящик скрипит «Барыню».
Ба-а-а-а-рыня, барыня-а!Сударыня барыня-а!Скинув лаковые башмаки, босыми ногами на пушистых французских коврах Есенин «выделывает кренделя».
Дункан смотрит на него влюбленными синими фаянсовыми блюдцами.
– C’est la Russie… ça c’est la Russie…
Ходуном ходят на столе стаканы, расплескивая теплое шампанское.
Вертуном крутятся есенинские желтые пятки.
– Mitschatelno!
Есенин останавливается. На побледневшем лбу крупные, холодные капли. Глаза тоже как холодные, крупные, почти бесцветные злые капли.
– Изадора, сигарет!
Дункан подает Есенину папиросу.
– Шампань!
И она идет за шампанским.
Есенин выпивает залпом стакан и тут же наливает до краев второй.
Дункан завязывает вокруг его шеи свои нежные и слишком мягкие руки.
На синие фаянсовые блюдца будто проливается чай, разбавленный молоком.
Она шепчет:
– Essenin krepkii!.. Oschegne krepkii.
Таких ночей стало тридцать в месяц.
Как-то я попросил у Изадоры Дункан воды.
– Qu’est-ce que c’est «vodi»?
– L’eau.
– L’eau?
Изадора Дункан говорит, что она забыла, когда последний раз пила «l’eau».
Шампань, коньяк, водка.
В начале зимы Почем-Соль должен был уехать на Кавказ. Стали обдумывать, как вытащить из Москвы Есенина. Соблазняли и соблазнили Персией.
На го`ре Есенин опоздал к поезду.
Почем-Соль пожертвовал Левой в инженерской фуражке.
После третьего звонка беднягу высадили из вагона с тем, чтобы, захватив Есенина, догонял вместе с ним вагон в Ростове.
Выбрались они дней через семь.
Из Ростова я получил открытку:
Милый Толя. Черт бы тебя побрал за то, что ты меня вляпал во всю эту историю.
Во-первых, я в Ростове сижу у Нины и ругаюсь на чем свет стоит.
Вагон ваш, конечно, улетел. Лева достал купе, но в таких купе ездить все равно что у турок на колу висеть, да притом я совершенно разуверился во всех ваших возможностях. Это все за счет твоей молодости и его глупости. В четверг еду в Тифлис и буду рад, если встречусь с Мишей, тогда конец всем этим мукам.
Ростов – дрянь невероятная, грязь, слякоть и этот «Сегежа», который торгуется со всеми из-за двух копеек. С ним всюду со стыда сгоришь. Привет Изадоре, Ирме и Илье Ильичу. Я думаю, что у них воздух проветрился теперь и они, вероятно, уже забыли нас. Ну, да с глаз долой и из сердца вон. Плакать, конечно, не будем.
И дурак же ты, рыжий!
Да и я не умен, что послушался.
Проклятая Персия.
Сергей.А на другой день после получения этого письма заявился обратно в Москву и Есенин самолично.
<…>
51
Есенин почти перебрался на Пречистенку.
Изадора Дункан подарила ему золотые часы. Ей казалось, что с часами он перестанет постоянно куда-то торопиться; не будет бежать от ампировских кресел, боясь опоздать на какие-то загадочные встречи и неведомые дела.
У Сергея Тимофеевича Коненкова все человечество разделялось на людей с часами и людей без часов. Определяя кого-нибудь, он обычно буркал:
– Этот… с часами.
И мы уже знали, что если речь шла о художнике, то рассуждать дальше о его талантах было бы незадачливо.
И вот, по странной игре судьбы, у самого что ни на есть племенного «человека без часов» появились в кармане золотые, с двумя крышками и чуть ли не от Буре.
Мало того – он при всяком новом человеке стремился непременно раза два вытянуть их из кармана и, щелкнув тяжелой золотой крышкой, полюбопытствовать на время.
В остальном часы не сыграли предназначенной им роли.