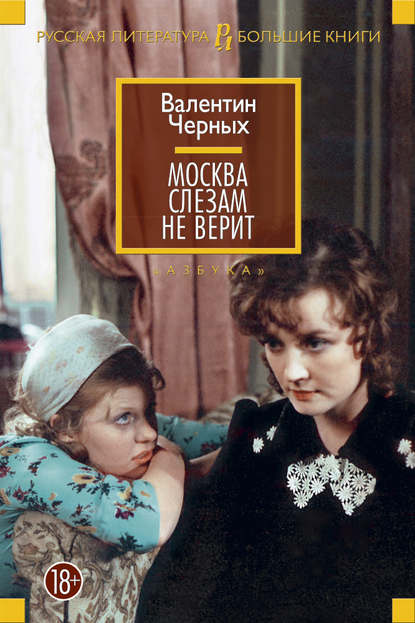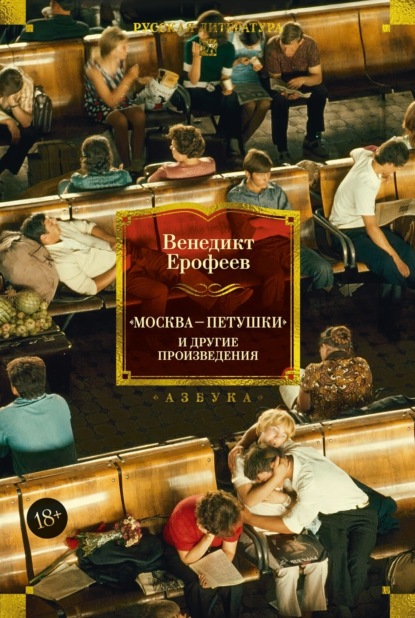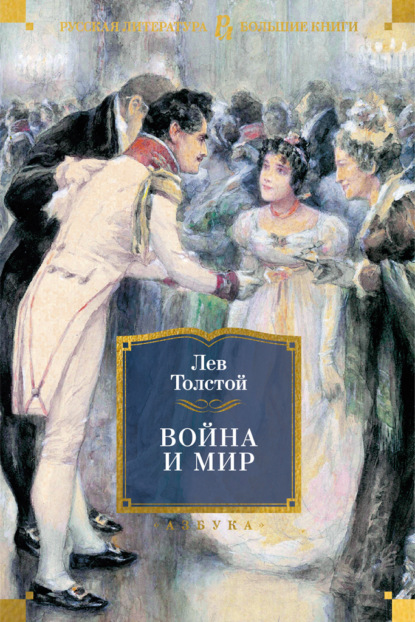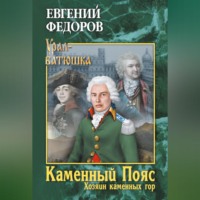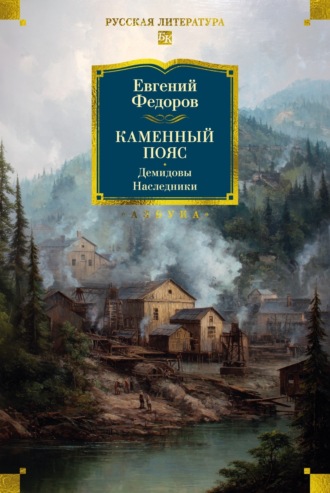
Полная версия
Каменный пояс. Демидовы. Наследники
– На том прости, нам некогда. На объявку торопимся. Утречком и поспешим дале…
После ужина солдат притащил бревно, положил его вдоль логова и разжег.
– Ну а теперь на роздых… Спать – оно будет тепло…
Солдат сразу захрапел – словно камнем ко дну пошел. Женка посапывала, потом подкатилась к солдату, заснула крепко.
Синие огоньки пламени бегали, лизали сухое бревно. Конь дремал стоя. Один Акинфий не спал; он поднял голову, долго смотрел на женку. Спокойное лицо ее было приятно. Рядом храпел солдат, во сне он жевал, и острый кадык его ходил ходуном.
«Так ты и бабу, и руду захапать? – зло думал Акинфий. Темная и страшная мысль обожгла его: – А ежели разом и ни руды тебе, и ни бабы…»
Опять на Демидова нашло томленье, и в то же время в груди поднималась лютая злость.
«Ишь, пес, на демидовское богатство руки потянул, а ежели, скажем…»
Акинфий встал, лицо разгорячено; он поправил бревно, голубые языки огня стали длиннее, ярче. Он прошелся по тропке, поднялся на шихан; перед ним лежала падь, крытая лучистым снегом. С темно-синего неба из Млечного Пути на оснеженную землю сыпалась звездная пыль. Демидов снял треух, приложил к голове горсть снега, но разгоряченная кровь, однако, не остывала.
«Он же человек, – убеждал себя Акинфий. – И каждый свое счастье ищет».
Но тут же со дна души его поднимался злой, безжалостный голос:
«Ну и пусть ищет подальше! Земли наши – наведет он сюда крапивного семени, потеснят нас… Ежели хочешь хозяйничать, Демидов, сердцем каменей…»
Он и сам не помнил, как снова очутился у костра. Солдат раскинул руки, рыжие усы от храпа шевелились. Женка уткнулась носом, спала спокойно. В руках Акинфий держал треух и охотничий нож. Он задел ногой солдатскую походную сумку, из нее вывалился рудный камень.
«Наша руда…»
Синие огоньки пламени гасли, костер смежил голубые глаза. Акинфий подошел к логову, стал на колени, взмахнул ножом.
– Господи…
Солдат дернулся и затих. Стало страшно, задрожала рука.
Женка спала спокойно, крепко. Акинфий оттащил солдата за ноги, положил на коня. Без тропы, через ельник, через глубокий снег отвез тело на реку и бросил на лед.
– С водопольем пошли ему, Господи, путь дальний, – перекрестился Акинфий. – Прощай, приятель…
Не глядя на реку, Акинфий на коне вернулся к костру. Конь захолодал, дрожал мелкой дрожью. Женка все еще спокойно спала… На строгом лице кержачки блуждала счастливая улыбка…
2Зимний день сумрачен: из-за снежных туч тускло глядит солнце. Вратарь открыл ворота, и в Невьянск на башкирском коне въехал Акинфий Демидов. Сторож подивился: на коне позади Акинфия сидела заплаканная молодка.
Привратник согрешил, подумал:
«Приволок молодец бабу. Знать, закружит коромыслом».
Никита Демидов не подивился молодке, но встретил Акинфку сурово. Молодку отвели в маленькую горенку, холопка принесла есть, но кержачка до еды не дотронулась. Села на кровать, незряче уставилась в угол, так и просидела весь день…
Батька заперся с сыном в горнице с каменным сводом. У порога на волчьей шкуре лежал пес. В печке потрескивали дрова.
Никита опустился на скамью:
– Ну, сказывай, как дела?
У Акинфия забилось сердце, но, сдерживая себя, он спокойно рассказал отцу о просеке к Чусовой.
Тут взор его разгорелся, он рассказал про встречу с солдатом и о рудах…
Никита встал, прошелся по горнице.
– Мохнорылый, а чужое добро задумал огребать. Ты что ж? – В глазах Никиты стояла ночь. – Бабу уволок, а о рудах не подумал?
– Батюшка! – Акинфий упал в ноги отцу. – Батюшка, согрешил: убил я солдата, оберегая наше добро… Страшно мне от крови. Кажись, и сейчас горит сердце… Первый мой грех…
Никита поднял за плечи сына, успокоил:
– Успокойся! Не ты виновен в его смерти, сам напросился. Закажи панихиду по усопшему, на душе и полегчает. Всякое, сынок, в жизни бывает!
Больше они в этот день ни о чем не говорили. Сын ушел в горенку и пробыл там до утра.
3У Аннушки густые черные ресницы и круглая, словно точеная, шея. На ее широкой спине – толстая темная коса. Одета она в голубую кофту, на плечах пушистый платок. Аннушка любит сказки; проворная демидовская старуха складно рассказывает их. Лицо кержачки строго, глаза печальны: скорбит глубоко. Из раскольничьих скитов принесла она крепкую веру и любовь к суровой молитве.
Акинфию нравилось печальное лицо и покорность кержачки. Больше он не спрашивал ни о чем. Дел по заводу нахлынуло много; они шли, как водополье. И жил Акинфий, как на водополье, на своем башкирском коньке ездил по горам и падям, намечал новые заводы. За делами, в работе, когда подкрадывалась тоска по женской ласке, он вспоминал Аннушку. Тогда – на стану, или в лесу, или в куренях, где рабочие вели пожог угля для прожорливых домен, – перед ним вставали зовущие глаза кержачки. В пургу, в мороз, через дебри и тайгу он ехал к ней в Невьянск и день-два не уходил из ее горенки.
Отец подумывал о Туле, торопился с литьем. Он предупреждал сына:
– Гляди, не шибко прилипай к бабе, не то дело порушится, а нам надо поднять такой дикий край!
О жене Акинфий вспоминал редко, по весне собирался навестить ее. Тут не было тревог; знал и верил отцовскому домострою. Верна будет Дунька!
Когда уезжал Акинфий, Аннушка изредка выходила погулять по заводу. Недремлюще было око Никиты Демидова. За ворота завода-крепостцы ее не пускали. Да и куда пойдешь, когда по тайным тропам в горах и лесах притаились демидовские дозоры. Никита пригрозил ей:
– Ты, Анна, бегать не вздумай! Настигну и в скитах; скиты разорю и попалю. Так!
Он хвалил сына:
– Да и другого ты, как Акинфку, не найдешь. Умен, пес, и жадный к работе…
В одну из глухих волчьих ночей в Невьянск возвратился Акинфий. За ним демидовская ватажка влекла на коне связанного кержака. Пленный скитник был волосат, черен, как жук, и глазами напоминал раскольницу Аннушку.
Кержака немедленно отвели в глубокий демидовский подвал. Сам Никита спустился в тайник. В погребе пахло плесенью, пламя в каганце горело прямо. Связанный кержак угрюмо молчал. Никита сжал кулаки, шагнул к нему:
– Молвишь, что ли, где Аннушкин полюбовник руду сыскал?
– Неведомо мне это…
– Их-х, пес!..
Кержака повалили на каменный пол.
Ночью в горенке Аннушка слышала, как в подполье глухо стучали… Отчего-то скорбело сердце, не находило покоя. Суеверная кержачка опасливо подумала:
«Не домовой ли то шебаршит в подполице?..»
Скованного кержака заключили в узилище…
Прошли крещенские морозы, по пышному снегу наметилось много звериных следов. По ночам к заводскому тыну приходили волки. Наследив по снегу вокруг крепостцы, волки садились против ворот и, подняв морды, начинали выть; в этом вое были темная тоска и ярая злость. Пристав взбирался на башню – от мерзкого волчьего воя по коже драл мороз, – бухал по волкам из дробовика. Звери, ляская зубами, отбегали, садились и начинали опять выть.
Ставили капканы, но волки обходили их.
Волкодав в хозяйских хоромах угрюмо поглядывал на Демидова. Волчий вой беспокоил хозяина. К тому же на него напали тоска и подозрительность.
В ночную темь, в волчьи ночи заводчику не спалось, пробуждалась совесть. В густом мраке вставал Кобылка с ершиной бороденкой, хрипел. В углу, казалось, не сверчок верещал, а замученные. Сколько их? Об этом знал только один Никита. В эти глухие ночи, когда он оставался наедине со своей совестью, его томила тяжкая тоска.
Он, кряхтя, вставал с постели и подходил к потайным слуховым трубам, долго прислушивался. В огромном каменном доме-крепости среди мертвящей тишины рождались какие-то звуки: то ли стон, то ли плач, а может – треск старых дубовых половиц…
«Вот оно как бывает! – озадаченно думал Никита. – Демидовы крепко сшиты, а душа и у них тоскует…»
Он до полуночи ходил по горнице; пес тревожно поглядывал на хозяина.
«Уж не Аннушка ли затеяла что? – подозрительно прислушивался Демидов. – Кержаки-то – они народ лесной, тяжелый. Ежели им топоры в руки… Долго ли до беды?..»
Никиту обуревали подозрения. Ему казалось, что Аннушка узнала об отце-узнике, подговорила служанок…
– Ух ты! – тяжко вздохнул Никита, сунул жилистые худые ноги в валенки и, освещая путь горящей свечой, крадучись пошел вдоль коридора. По пятам шествовал пес, с преданностью поглядывая на хозяина. Глаза Демидова горели недобрым огнем, гулко колотилось его сердце.
Заводчик остановился перед дубовой дверью; пес вилял хвостом, ожидал. В горенке стояла тишина: спали. Пламя свечи в шандале колебалось.
«Никак почудилось? Спит баба… А может, притаилась? Нет, не может того быть…»
Он сжал челюсти, закрыл глаза; ноги словно вросли в каменный пол; на двери с минуту колыхалась огромная угловатая тень человека.
Никита резко повернулся от двери.
«Волки окаянные тоску навели…»
Грузным шагом он медленно возвратился в горницу. На башне бухнул выстрел. Волки замолкли, но через минуту вой их поднялся снова.
Демидов накинул полушубок, надел треух, взял дубинку и вышел на двор. За ним по пятам шел верный пес.
С темного неба по-прежнему с шорохом падал снег. Никита, крепко сжимая дубину, подошел к воротам.
– Открывай ворота, бей зверя! – злым голосом крикнул Демидов. Пристав сошел с башни, перед ним стоял взлохмаченный хозяин.
– Открывай! – гаркнул Никита.
У пристава от хозяйского грозного окрика задрожали руки.
Нетерпеливый Демидов отпихнул пристава, загремел запорами и открыл ворота. Против них на голубоватом снегу полукружьем сидели волки. Зеленые огоньки то вспыхивали, то гасли. Пес ощетинился, зарычал.
– Воют, проклятые! – Хозяин с дубьем бросился на волков.
Звери, ляскнув зубами, отскочили… Демидов прыгнул и шарахнул дубиной – передний волк взвизгнул и покатился на снег. На него набросилась стая.
Никита подумал: «Эх, волчья дружба!»
– Батюшка, Никита Демидыч… Ой, остерегись! – кричал из-за тына пристав.
Волки грызлись. Никита дубьем врезался в волчью стаю. Матерый зверь с размаху прыгнул Демидову на спину – Никита устоял на ногах. Пес острыми клыками цапнул зверя за ляжку – зверь оборвался. Пес и зверь, грызя друг друга, покатились по снегу.
Остервенелый Никита бил дубьем зверя, а волки ярились; длинный и тощий прыгнул на грудь Никите и острым зубом распорол полушубок…
– Так! – одобрил Никита и взмахнул дубиной.
– Ой, страсти! Осподи! – Пристав не переставая палил из дробовика.
На дворе заколотили в чугунное било. Сбежались сторожа и еле оборонили Никиту и пристава.
Волки разорвали полушубок на Демидове, ветер взлохматил его черную бородищу. От Никиты валил пар. Зло ощерив крепкие зубы, с дубиной в руке, Демидов прошел в ворота и зашагал к хоромам. Тяжело дыша, он сам себе усмехнулся:
«Ну что, старый леший, со страху наробил?»
На истоптанном снегу с оскаленной пастью растянул лапы изорванный волками верный пес…
По заказу Демидова работные люди огнем отогрели глубоко промерзшую землю, ломами выбили яму и схоронили пса. На псиной могиле поставили камень; на нем высекли слова:
«За верную службу хозяину».
Утром, узнав о волчьем побоище, Акинфий спросил отца:
– С чего, батюшка, удумал такое?
Борода у Демидова дрогнула, он крепкими ногтями поскреб лысину и сказал угрюмо сыну:
– Вот что, ты свою раскольницу на заимку отвези… Покойнее будет. Так!
Акинфий понял, поясно поклонился отцу.
На другой день Аннушку отвезли на дальнюю заимку…
Глава третья
1Думный дьяк Виниус сдержал слово, данное Демидову.
На Масленой неделе невьянский заводчик получил царскую грамоту. Помечена была грамота января 9-го, года 1703. В грамоте говорилось, что царь Петр Алексеевич, убедившись в полезной работе Демидовых, для умножения их заводов приписывал к ним на работу волости Аятскую и Краснопольскую и монастырское село Покровское с деревнями, со всеми крестьянами и угодьями. В свой черед Демидовым указывалось добросовестно вносить в казну железом подати за приписных крестьян.
– Вот оно и вышло! – ликовал Никита. – И не крепостные, и не вольные, а одно слово – демидовские кабальные… Учись, Акинфка!..
Монастырский игумен, узнав про царский указ, приказал готовиться к дальней дороге.
В крытый возок положили пуховики и подушки, усадили монастырского владыку, укрыли шубами и повезли в Верхотурье. За возком игумена тянулся, поскрипывая полозьями, монастырский обоз, груженный битой подмороженной птицей, бадьями меда, добрых настоек и колотыми свиными тушами.
Верхотурский воевода благосклонно принял монастырские дары; игумена отвели в баню, знатно попарили. От крутого пара тучному игумену дышалось туго; верхотурский цирюльник пустил дородному мужу кровь: шла она из порезов густая, черная; курносый брадобрей, глядя на монашью кровь, думал:
«Эх, и разъелся поп на мужицких хлебах…»
Кабы знал игумен мысли цирюльника, придавил бы шишигу, но тот дело свое делал исправно, учтиво подошел под благословение и с подобострастием облобызал игуменскую руку.
За монастырской настойкой игумен открыл воеводе свою печаль.
– Обошли Демидовы царя, ох обошли, – кручинился монах. – Ты, воевода, присоветуй, как стреножить тульских грубиянов.
Воевода полез в тавлинку, понюхал, замахал руками:
– Ой, что ты, отец! Разве их стреножишь, варнаков? Моих людишек и то гонят в три шеи. Известно, други царевы… Вот тут и сунься в их городишко, за их тын… Враз оттяпают потребное что… Я и то с опаской поглядываю, что дале будет.
Игумен хитро прищурился:
– А ежели я самому царю-батюшке напишу о демидовском разбое? Ты поразмысли: Демиду – село да деревнюшки. За что про что? Мы хошь молитвы за его светлость, царское величество, возносим да на ектеньях поминаем.
Воевода Калитин сидел в Верхотурье на кормлении давно, набил на плутовстве руку: подходил он к делу практически. Затянувшись крепкой понюшкой, воевода долго чихал. Игумен покосился:
– И когда ты табачище свой кинешь? Ох, искушение!..
– Когда на погост попы-божедомы сволокут, тогда и кину, – отмахнулся воевода. – А ты слушай, что я тебе по добромыслию поведаю.
Игумен приложил пухлую ладошку к уху.
– То верно, что у тебя сельцо да деревнюшки с мужицкими животами отняли… Брысь, окаянный…
Воевода пнул ногой под стол; по горнице разнесся кошачий визг. Лицо воеводы вспотело, он красным фуляровым платком утер лысину.
– Ты дале, отец, слухай, – как ни в чем не бывало продолжал воевода. – И то верно, что за государя и род царский ты молитвы Богу возносишь. Но теперь сам посуди да прикинь, какая от сего царю польза?
– Ты что, еретик? – сердито перебил игумен. – А ведомо тебе, что за молитвы наши царю воздастся на небеси… От!
Игумен перекрестился. Воевода не унимался:
– Ох, отец, речешь ты, как дитя малое, а того не ведаешь, что царь Петр Алексеевич такой царище, что и без твоих молитв на небо заберется и цапнет, что ему занадобится. Рука да ум у него – ух какие!..
– Не богохульствуй, епитимью наложу, – пригрозил игумен.
– Не беленись, игумен. Пригубь чару да слушай. – Воевода налил чары, придвинул игумену блюдо с балычком. – Ты за крестьянишек – молитвы, а Демидовы царю за них железо да пушки дадут. Царь-то наш умный. Железом да пушками, ух и надает ворогам!
Игумен опустил голову, отодвинул недопитую чару, вспылил:
– Я сам поеду к царю да о душеспасении доведаю. Богом пригрожу.
– Эх, игумен, эх, отец! – покачал головой воевода. – Езжай, сунься к государю! Царь на пушки колокола поснимал, а ты с молитвами. Поди покажись, спина у тебя жильная, широкая, царь по ней дубиной знатно отходит – вот послух тебе будет!
Воевода засмеялся, луковка его носа сморщилась. Он подлил игумену в чару и досказал:
– Молитвы и храм – это, отец, для крестьян да простых людишек оставь. А царская голова светлая, знает, что робит…
До вторых кочетов услаждались едой и речами игумен и воевода, жаловались друг другу на беды.
Отгостив три дня, игумен с пустыми санями вернулся в монастырь и, закрывшись в келье, запил горькую.
2Демидовские приказчики подняли на ноги приписанные к заводу волости. Крестьяне, почуяв кабалу, противились. В Краснополье крестьяне встретили демидовских приказчиков с дрекольем, с вилами. Главного приказчика Мосолова стащили с коня, искровянили морду и посадили в холодный амбар под замок. Мосолов выворотил дверь и сбежал ночью в Невьянск. Как ни кряхтел верхотурский воевода, а выслал солдатскую инвалидную команду. Крестьяне притихли.
По дорогам к Невьянску потянулись подводы с припасами. Демидов посмеивался:
– Что, напетушились? Ин ладно. На работу пора!
Сразу прибыло рабочей силы. Приписных крестьян разбили на артели, поставили старост над ними и развели их по лесным куреням. По глубокому снегу валили приписные мужики лес, готовили дерево на пожог угля. Работа по куреням была тяжелая, а харчи дрянные. За каждую провинность пороли, дерзких ковали в железа и увозили в Невьянск. В демидовских каменных подвалах появились закабаленные посельники.
Акинфий Демидов разъезжал по горам, выглядывал места для возведения новых заводов. Мыслил по весне Акинфий Никитич ставить новые домны на Тагилке-реке – на том месте, где солдат нашел богатые руды…
Часто проезжал Акинфий по знакомой тропке, мимо елового выворотня на Тагилку-реку.
Проезжал он это место молча.
Отец совсем в дорогу собрался, подошел март. На буграх хорошо пригревало солнце. Возки давно нагружены кладью. Никита созвал заводских приказчиков, отдал строгие наказы, как дела вести; посулил скоро на Каменный Пояс вернуться да учинить проверку, как его наказы выполнены.
Акинфка жаловался отцу:
– Батюшка, проезжал я тем местом, где солдата видел, на душе неладно стало…
Никита задумчиво теребил бороду.
– Оно известно – кровь. Облегченья ради церковь строй… Богу угодно, и кабальным в утеху и в назиданье. Так!
Отъехал Никита Демидов солнечным полднем. Сверкали снега, по дорогам ходили галки. Впереди хозяйского возка скакал казак, встречные мужицкие подводы сворачивали в сторону, в глубокий снег. Казак грозил, чтобы мужики шапки снимали: едет хозяин Каменного Пояса, сам Никита Демидов.
Крестьяне, сняв шапчонки, угрюмо глядели на демидовский возок…
Марта 25-го, в день Благовещенья, облегчения ради от тревожных дум заложил Акинфий Никитич на заводской площади каменную церковь…
Глава четвертая
1Настойчиво стремясь к берегам Финского залива, царь Петр продолжал ожесточенную борьбу со шведами. В короткий срок были сформированы новые полки, отлиты пушки, вокруг Пскова и Новгорода возвели сильные земляные сооружения. В Архангельске закончили строительство боевых фрегатов.
Но и Карл XII, король шведский, не дремал. Он понимал, что борьба идет не на жизнь, а на смерть.
По указанию короля опытные шведские инженеры укрепили Ингерманландию и южный берег Финского залива. Шведы поджидали нападения русских войск с юга или с юго-востока и думали нанести им сокрушительный удар, подобный нарвскому. В Финском заливе плавала шведская эскадра, обороняя невское устье.
Однако царь Петр разгадал замысел шведов: решил напасть и овладеть берегами Финского залива с такой стороны, с какой его меньше всего ожидали враги. В начале августа 1702 года он прибыл в Архангельск. На Двине дули предосенние ветры, хмурилось небо. Царь с небольшой свитой проехал в деревню Вавчугу, к корабельщикам Бажениным. Старинная дружба связала царя с этими талантливыми русскими людьми, род которых появился под Холмогорами еще во времена Ивана Грозного. Статные, крепкозубые, бородатые красавцы Осип и Федор Баженины понравились царю своей сметливостью и предприимчивостью. От отца Андрея Баженина им перешло в наследство лесопильное дело. На дальнем севере Баженины впервые построили пильную мельницу, и теперь два брата энергично развивали это дело. С тех пор, когда Петр Алексеевич обратил внимание на Архангельск и стал в Соломбале расширять судостроительную верфь, понадобились добрые доски, тес, – тут и пошли в гору Баженины.
Хорошо налаженное и выгодное лесопиление в Вавчуге породило у Бажениных много завистников, которые всяческими неправдами старались оттягать у братьев их земельные угодья. Еще при царе Федоре Иоанновиче некий истец Аника Лыбарев затеял с Андреем Бажениным тяжбу, и ничего из этого не вышло. Анике Лыбареву в иске отказали. Прошло несколько лет, и на Бажениных навалилась горшая беда. Духовным отцам сильно приглянулось пильное дело в сельце Вавчуге. Архиепископ Важеский и Холмогорский Афанасий подал юным царям Петру и Ивану Алексеевичам челобитную об отдаче ему сельца Вавчуги. В ту пору Петр Алексеевич, еще юнец, впервые и узнал о Бажениных. Вместе с братом он стал на их сторону и отписал архиепископу Афанасию, чтобы он не вмешивался в дела Бажениных и не притязал на их вотчину.
Только Баженины отбились от этой беды, на них навалился третий враг. Переводчик посольства, немец Крафт, имевший царскую привилегию на постройку в России пильных ветряных и водяных мельниц, подал на них жалобу царю Петру.
10 февраля 1693 года Петр Алексеевич подкрепил грамотой право Бажениных производить лесопиление и размол муки на их мельницах, а Крафту указал не соваться в предприятия Бажениных.
Как было не стараться при такой сильной защите! И умные, даровитые братья Баженины еще больше расширили свое лесопильное дело, и доски с их заводов шли не только на русские верфи, их с охотой брали и иноземные купцы.
Однажды нежданно-негаданно, после закладки корабля в Соломбале, к Бажениным нагрянул сам царь Петр Алексеевич. Ох и обрадовались братья! Царь пришелся им под стать. Он интересовался всем и до всего доходил сам. Петр Алексеевич облазил пильню, сам с полдня поработал на ней и похвалил братьев:
– Молодцы вы у меня! Но мало сего, братцы, подумайте о судостроении! И лес, и пильни есть, тут только корабли и закладывать!
– Да нашим ли умом это ладить, ваше величество?
– Кому, как не новгородцам, корабельщиками быть! Они пораньше иноземцев своими ладьями избороздили и дальние реки, и моря на белом свете! – подбодрил царь.
Крепко задумались Баженины и после отъезда царя Петра в Москву все чаще стали наведываться на Соломбальскую верфь и приглядываться к постройке кораблей.
Наконец решили они попытать счастья и написали царю челобитную: «…вели, государь, в той нашей вотчинишке в Вавчужской деревне у водяной пильной мельницы строить нам, сиротам твоим, корабли, против заморского образца, для отпуску с той нашей пильной мельницы тертых досок за море в иные земли и для отвозу твоей государевой казны хлебных запасов и вина в Кольский острог и для посылки на море китовых и моржовых и иных зверей промыслов…»
И просили еще Баженины у царя дозволения на рубку корабельного леса в прилегающих уездах: Двинском, Каргопольском и Важеском. Испрашивали дозволения нанимать работных на строительство кораблей и для морского плавания, а также разрешения содержать те корабли вооруженными для защиты от морских разбойников.
Ответ на просьбу Бажениных долго не приходил, так как царь пребывал в Голландии. Но по возвращении из-за границы Петр Алексеевич немедленно написал братьям грамоту, в которой подробно изложил не только мотивы своего разрешения, но и льготы и указания, как лучше наладить кораблестроение.
Баженины оправдали надежды царя: без проволочек построили верфь и заложили два судна-фрегата: «Курьер» и «Святой Дух». Они оснастили корабли своими парусами и канатами, к этому времени предприимчивые братья обзавелись уже прядильным и парусным заводами…
И вот на заре, когда солнце только что позолотило вершины елей, на реке показался фрегат. Баженины и все работники высыпали на берег. В корабле они узнали трофейный фрегат, только что отбитый у шведов, дерзнувших напасть на Новодвинскую крепость. А вот на борту стоит великан и размахивает треуголкой. «Батюшки, да это сам царь!» – ахнули Баженины и испугались. Сдавать вновь отстроенные корабли самому царю им показалось страшновато. Петр Алексеевич сам заказывал фрегаты и сам в случае чего может сгоряча учинить расправу. Одно только и оставалось в утешение – фрегаты по царскому слову были отстроены весьма быстро, в небывало короткие сроки.
Рядом с фрегатами строились торговые суда самих Бажениных. По приказу Петра Алексеевича спустили шлюпку, и он сразу перебрался на вновь отстроенный фрегат. Туда поспешили с мастерами и Баженины. Петр обнял братьев, расцеловал:
– Спасибо, весьма тронут поспешанием…
Царь внимательно осматривал корпус и управление судна, лазил в трюмы, испытывал паруса, канаты и всем остался доволен.
– Добры, добры! – повторял он. – Ай да Баженины! Ну, чем вас отблагодарить, ко времени выручили вы державу Российскую…