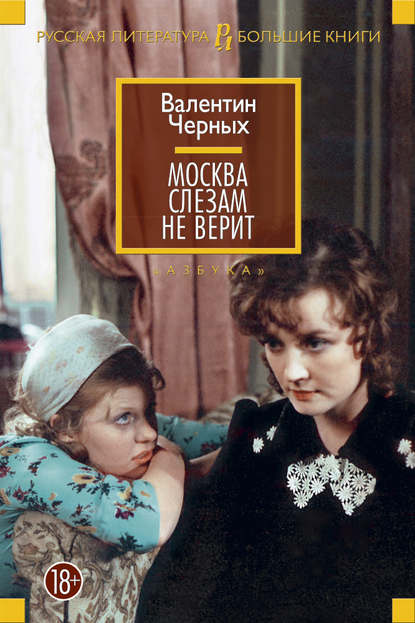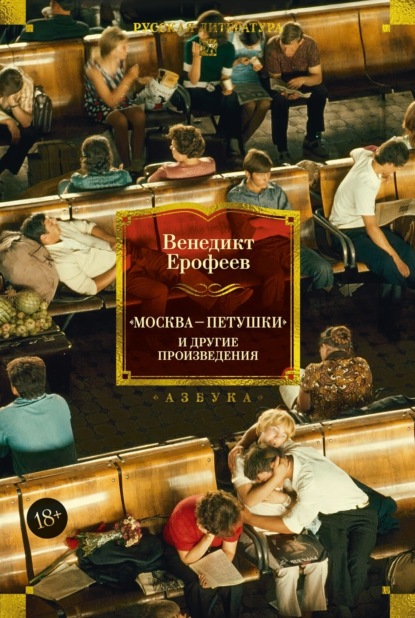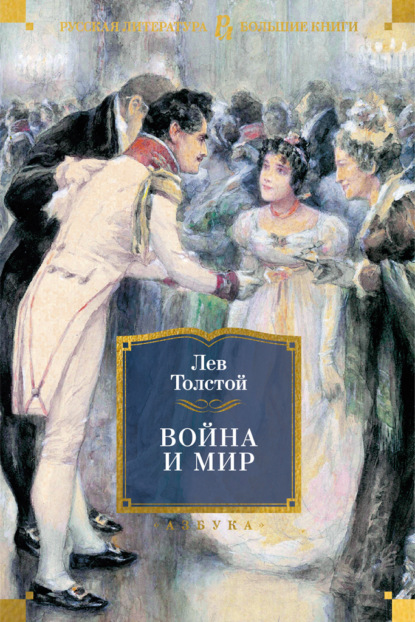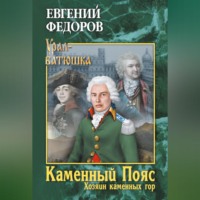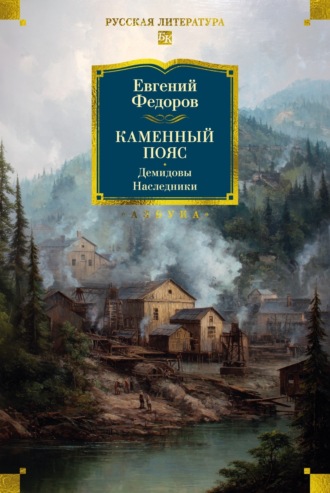
Полная версия
Каменный пояс. Демидовы. Наследники
– Сенька Сокол, вот кто!
– Но-о! Ух, пес! – стукнул костылем в землю Демидов. – Да говори: что видел? Не бойсь, супостат…
Холоп осмелел:
– Еще, хозяин, Сенька башкира ослобонил да обнял. «Вот, – грит, – Султан, где довелось свидеться».
– Ох, дьяволы! – Демидов уставился в Щуку. – Ну, варнак, скачи в Невьянск да проворь людей, надо переловить эту разбойную ватагу. Слышь-ко!..
Весь день Демидов ходил сумрачный, зорко поглядывал на горы. «Ничего боле не будет, – успокаивал он себя. – Пошебаршили и откочуют, а разбойников приставы пымают. Эх, Сенька, не миновать тебе моих рук! На сей раз не убежишь, каторжный…»
Один-одинешенек отчаянный Щука опасными дорогами добрался до Невьянска. На заводе шла кутерьма: на дорогах появились буйные ватаги; в дальних лесных куренях углежоги побросали работу и разбрелись кто куда.
Акинфий Никитич встревожился об отце, подобрал храбрых людей, вооружил их. Но слать их в помощь батьке не пришлось: на другой день с восходом солнца в Невьянск прискакал сам почерневший и лютый Никита Демидов. Оказалось, в ночь люди на стройке разрыли почти готовую плотину и разбежались по лесу. За рекой появились конные башкирские ватаги, пускали в демидовский лагерь стрелы и все пытались переплыть на заводской берег. Демидову – на что бесстрашному – и то пришлось уносить ноги…
Догадывался Никита: затевается неладное; велел немедля крепить Невьянск да слать гонцов в Верхотурье, просить воинской помощи…
Спустя несколько дней пришла новая тревожная весть: башкиры на ногайской дороге вырезали два русских сельца…
– Худо будет, не управиться с этим злом верхотурскому воеводе, – решил Никита. – Ты, Акинфка, тут крепи заводы да своих ратных людей сбирай, а я к царю Петрю Ляксеичу поскачу. Ежели башкирь восстанет – войско надо немалое.
Демидов тайно собрался в дорогу; сын Акинфка проводил отца до Чусовой, а сам вернулся в Невьянск обороняться от лихой напасти…
Глава двенадцатая
Уфа – город древний, возник во второй половине XVI века; строили город боярин Иван Нагой да боярский сын Голубев. Лег городок-крепость в сердце Башкирии; управлял город обширными землями. В городке сидел царский воевода, чинил суд-расправу, с башкир да с других народов собирал ясак. Воеводы считали Башкир-землю русской вотчиной, а башкир – подданными; они беззастенчиво обирали башкир и, как бы в насмешку, называли это кормлением. Царь Петр Алексеевич строг был, за разбой да воровство не жаловал воевод, но до Каменного Пояса далеко, не достанешь, и воеводы охулки на руку не клали.
В год 1704-й на Уфу-город посажен был воеводой Александр Саввич Сергеев – муж жадный, свирепой хватки. По вступлении в уфимскую провинцию воевода наказал согнать подводы со всех башкирских улусов; перебирался воевода с большим скарбом, со псарями да псарней; в кованых сундуках везли добро; на телегах ехали мамки да няньки воеводских ребят. Сам воевода восседал в колымаге, в которую впряжено было двадцать четыре башкирских коня, и на них форейторами ехали ясачные башкиры. Впереди воеводской колымаги бежали скороходы, а позади обоза тянулись порожняком триста башкирских подвод. Прознав о проезде воеводы, народ разбегался, укрывался в лесах.
– Попрятались окаянцы и не чтут воеводского чина! – зло поругивался хмурый воевода.
По приезде в Уфу наказал воевода скликать башкирских старшин, батырей, да тарханов, да стариков поприметней. Со страхом съехались башкиры в город. По приказу воеводы обыскали недалекие рубежные крепостцы, собрали все пушки да мортиры, от годных до ржавых, и расставили по дороге к воеводскому дому, а у пушек выстроили гарнизонных солдат да повелели им голову держать выше и взор иметь дерзкий. Башкирских посланцев решили провести меж таких угроз, дабы знали, до чего силен и могуч воевода.
Башкиры испугались; чтобы беду отвести, старшины их подобрали в табунах в дар двадцать два добрых скакуна и, пройдя все выставленные по дороге воинские силы, подвели их к воеводе. Хоть кони и добры были, однако воевода не ликовал, не довольствовался этим и, грозно насупив брови, пообещал башкирам осчастливить их своим объездом по улусам и сельбищам. Башкиры разъехались из Уфы нерадостно.
Воевода слово свое сдержал: снарядив в поход воинский отряд, отправился обозревать благополучие вверенных ему народов. Однако башкиры, прознав о намерении воеводы, побросали свои селения, скарб, бежали в горы и в лес, увозя своих женок и ребят. И сколько ни ехал воевода, везде встречал безлюдие и пустыню. Воевода вернулся в Уфу очень мрачен и, чтобы не уронить своего чина, вновь потребовал к себе башкирских старшин. Наказ воеводы был грозен, и потому немногие имели отвагу предстать перед воеводой.
Воевода пуще рассвирепел. Бегал по воеводской избе, ругался:
– Нехристи, в чинах толк не разумеют. Того не кумекают, что воевода в этих краях царь и бог!
Воевода был тучен, мучила одышка.
«Что за народы такие? – думал он. – Эка, и в ум себе не возьмут, окаянные, что воеводе потребно кормление, и притом не малое!»
Башкирских старост явилось два, три, да и обчелся, и притом без подношений. Воевода настрого наказал приставам и будочникам собрать на воеводский двор народ с торжища, с постоялых дворов и с посадов. Ретивые хранители благочиния хватали народ, где доводилось, и вели за крепкий заплот, а к заплоту приставили караульных, чтобы дерзкие не сбежали.
Народу собралось немало: и башкир, и посадских людишек; в заплоте стало тесно.
Тут воевода показал родительское попечение о людях: по его указу выкатили из воеводских погребов бочки меду и хмельного, а чтобы питье было крепко, засыпали в него нюхательного зелья и тем напитком силком потчевали. Те, которые отродясь не пивали хмельного, ныне попробовали. А дерзких, кто перечил и не принимал воеводского подношения, били палками и насильно поили.
От усердия воеводских служек и приставов народ захмелел; в заплоте люди валялись в беспамятстве. И тогда воевода решил облегчить свое сердце потехой. Принесли пороху, огня; иным палили бороду, как щетину борову, под другими солому подожгли, лепили к рукам да к лицам возжженные свечи, а то смеху ради сыпали сонному в горсть пороху и огнем палили.
Но и того показалось воеводе мало: по его приказу в заплот вкатили десять пушек и палили из них до вечера, чтобы люди чувствовали страх и почтение.
Подполковники и приказные порешили: раз воеводе все можно, то почему это в малых размерах не возможно им? Они объявили ногайскую дорогу своей вотчиной и стали притеснять да обирать башкир…
С того и началось. Башкиры, не стерпев обиды, поднялись. Нашлись и вожаки, сбили конные дружины и пошли огнем и мечом крушить мелкие городки и сельбища…
Глава тринадцатая
1Вооруженные конные сотни повстанцев осадили города Бирск, Мензелинск, Елабугу. Повстанцы внезапно нападали на демидовские заводы и русские крепостцы и предавали все огню.
По сибирской дороге шли сотни башкира Султана. Он стремился выбраться на Нейву-реку и захватить Невьянский завод. Вел ватаги лесными дорогами Сокол; подговорил он Султана на своего вековечного врага. Башкирский вождь был примерный лучник. Бедняк, он не боялся ни голода, ни холода. Башкирские конники через горы и чащобы пробирались к Султану, и имя его полетело из одного края Башкирии в другой.
Заводчик Акинфий Демидов приуныл: по дорогам восставшие останавливали обозы, груженные железом, и растаскивали его. Это было опасно, умножало оружие противника. Батька Никита слал грамоты из Санкт-Питербурха, требовал по указу царя пушек да ядер, а как доставить их, если на своих дорогах не хозяин?
В Невьянске и в окрестных заводах проживать стало ненадежно. Народ на рудные места навезли из разных краев России: оторванные от сохи, от родных мест и брошенные в глубокие шахты и на каторжную огненную работу, крестьяне глухо роптали и только поджидали случая взбунтоваться.
В последние денечки прошел слух о близких башкирских дружинах. Акинфий Никитич стращал народ:
– Наскачут нехристи, порубят народ, пожгут хатенки – вот и все тут. Обереженья ради крепче держитесь за хозяина!
По селам и заводам народ дотемна убирался на дворы; закрывали наглухо ставни, на хлевы и амбары поделали крепкие запоры. В поле выходили работать гуртом, артельно. Подошли покосы, ехали на них вооруженные – кто топором, кто рогатиной; ночью попеременно сторожили врага, коней на темную пору привязывали к телегам…
Акинфий Никитич разъезжал со стражей, в Невьянске у ворот подбавил караульных. Как ни оберегался заводчик, а на лесной дороге встретился со своим лютым врагом. Вел ватажку Сенька Сокол. Акинфий сразу признал своего кабального. Одет был Сенька в татарский белый армяк, на голове бархатный колпак, а сбоку висела кривая сабля. Конь под противником добрый, горячий, да и Сенька, похудевший, загорелый, сидел на скакуне орлом. Рядом с ним на золотистом жеребце мчался башкир Султан, в руке его блестела сабля.
За спиной Демидова скакал кат; он опередил хозяина и бросился на башкирскую ватажку. Сенька свистнул, крикнул, конь под ним вздыбился, заржал. Удальцы выхватили кривые сабельки. По лесу пошел звон.
Акинфий привстал в стременах, закричал кату:
– Круши подлого изменника!
Тот разъяренно гаркнул и взмахнул дубиной; но Сенька увернулся и налетел на палача; на солнце блеснула кривая сабля.
– За кровь нашу!
Бородатая голова ката сорвалась с плеч и покатилась на дорогу…
Акинфий проворно повернул коня, огрел его плетью и поскакал по невьянской дороге.
Охранители Демидова убегали, отстреливаясь, но удальцы бесстрашно преследовали их. Впереди летел на резвом скакуне Сенька; мимо мелькали сосны; конь птицей нес через ямы, калужины; одно видел Сенька – только своего врага: Акинфия Демидова…
Подскакав к реке, проворный заводчик с маху ринулся с крутого яра и поплыл на невьянский берег. Сокол – за ним. Удальцы осыпали Демидова стрелами, но могучий демидовский жеребец широкой грудью рассекал быструю реку. Легкого Сенькиного коня стало сносить течением…
Демидовский конь выбрался на берег. Акинфий что есть мочи заорал: «Гр-рабят!..» Жеребец рванулся – следом по тропе закружилась пыль… Впереди мелькнул островерхий заплот невьянской крепостцы… Из ворот навстречу хозяину выскочила полусотня всадников.
– Эх, утек, гад! – погрозил в сторону завода Сокол, повернул коня и бросился навстречу своим…
2Подошла осень, но дождей не было; обмелели реки. Башкирские повстанцы двигались по всем трем сибирским дорогам; не стало ни проходу, ни проезду. Уфимский воевода не на шутку струхнул. Опасаясь царского гнева, воевода выслал из Уфы для успокоения башкирских волостей воинский отряд под командой подполковника Петра Хохлова. Перед тем в Уфу подошли конные башкирские сотни ближних улусов. Башкирские военачальники клялись воеводе верностью и обещанием полонить да пожечь непокорных соплеменников. Воевода на слово именитым башкирам не поверил и побрал с них аманатов[20]. Войско собралось немалое, и Хохлов спешно повел его вглубь Башкирии.
Почти одновременно в помощь Уфе из Казани выступил конный отряд Сидора Аристова в семьсот семьдесят сабель; за ним двинулся солдатский полк Ивана Рыдаря…
Отряд подполковника Петра Хохлова тем временем миновал засеку; далеко оставил позади себя пограничные крепостцы и городки и углубился в коренную башкирскую землю. Башкирские улусы опустели, жители угоняли скот, на дорогах и перепутьях тлели остатки костров: повстанцы уклонялись от прямого боя и заманивали войска в незнакомые места.
Ударили сибирские морозы, сковали быстрые горные речки, навалили глубокие снега. Переходы приходилось делать небольшие, пошли горы; по долинам дул пронзительный ветер. По лесным трущобам собирали в снегу сухое дерево, жгли…
С большими трудностями отряд Хохлова добрался в урочище Юрактау. Кругом лежали высокие оснеженные горы; на речке полыньей дымился парок. Усталые, измученные роты остановились на ночлег. Ночь стояла тихая, звездная, искрились голубые снега, да в далеких перелесках выли голодные волки. Солдаты жались к кострам: холод пробирался под ненадежную одежонку.
Ночью бесшумно исчезли конные башкирские сотни, пристали к своим. Утром, когда отряд приготовился в путь, из-за перелеска показались башкирские лавы; тучи стрел зазвенели в морозном воздухе. За конными башкирами двигались скопища пеших.
Подполковник водил роты в атаку за атакой, но каждый раз откатывался с уроном к становищу: враг дрался отчаянно. Дули ветры, запорашивали глаза, солдаты готовились на голом поле к обороне: штыками, топорами рубили мерзлую землю – окапывались. Выстроили полукружьем обоз, из-за него отстреливались…
Башкирские полчища окружили войско подполковника Хохлова; с каждым часом к башкирам подходили и подъезжали все новые и новые толпы…
Голодные солдаты кое-как продержались десять дней среди наседавших башкир. От холода, бессонницы и голода солдаты изнемогали. Тогда подполковник решился на отчаянное: или погибнуть, или пробиться…
3В башкирском лагере в это время царило оживление. В покинутой, занесенной снегом деревушке Султан совещался с военачальниками. Лицо Султана – усталое, веки от бессонных ночей припухли; немало он объехал деревень и дорог, поднимая башкир к походу. Справа от башкира сидел мрачный Сенька Сокол и слушал его. Султан говорил горячо, разжигал страсти, военачальники одобрительно кивали головами. Сенька опустил голову. Султан вскочил; скамья опрокинулась.
– Сегодня ночью бить будем, резать урусов!
Сокол потемнел, поднял глаза на Султана, сдвинул брови:
– Солдатишки измыкались, изголодались, народ они подневольный; потолковать надо. Без драки, может, на сторону нашу подадутся.
На вязке соломы сидел толстомордый тархан Мамед – тот самый, что продал Никите Демидову вотчинные земли. Тархан недолюбливал Сеньку, да и тот сторонился богатого башкира.
«Не к добру тут стервятник вертится, – думал про него Сенька, – предаст».
С Мамедом всюду ездили два телохранителя, плечистые татары, оба нелюдимые и злые, преданные, как псы, своему хозяину. Тархан поджигал башкир бить всех русских. В походе на ногайской дороге он пристал к Султану и с той поры не отставал от него.
Тархан поглядел на Сеньку злыми глазами, плюнул:
– Бить собака надо!
– Пошто всех бить? Резать надо купчишек, да дворян, да богачей, вот оно что!
Глаза Мамеда позеленели; он схватился за саблю:
– Башкирска земля для башкирский народ!
Сенька дышал тяжело; в нем закипела кровь. «Ишь, сытая морда, как поворачивает дело», – подумал он и зло крикнул:
– Верно, башкирская земля для башкирского народа, а не для дворян да тарханов. Вот оно как!
– Молчи, Сокол, рубить буду! – вскочил тархан и бросился к Сеньке.
Сокол спокойно взялся за рукоять клинка:
– Попробуй, я и сам на это мастак!
– Их-х! – Тархан скрипнул зубами, повернулся и вышел из хибары.
Султан недовольно повел бровью:
– К чему ты обидел Мамеда?
Сенька выдержал взгляд Султана, вздохнул:
– Эх, ты за народ идешь биться, а не подумал, за какой народ?
– Мамед – башкир…
Сокол положил руку на плечо Султана:
– Мамед – тархан, он друг Демидову. Вот оно что главное, а башкир иль татарин он, пес с этим! Наши супротивники – дворяне да тарханы. Понял? Бедняку все едино, кто жмет да шкуру его дубит, русский ли купец, иль тархан. Ты об этом подумай…
Султан молча надвинул лисий треух, блеснул глазами:
– Сегодня драться будем, а разговоры ни к чему…
– Эх, жалость, не докумекал ты, Султанка, все. А ты уразумей…
Султан, не слушая, вышел на улицу; взволнованный, он посмотрел на тусклое зимнее небо и подумал: «К чему Сенька такие речи вел? Аллах сегодня пошлет беззвездную ночь. Нельзя больше ждать: налетит буран, люди разбредутся по улусам…»
Под утро – над долиной висела густая морозная мгла – башкиры ворвались в обоз русских. На бивуаке забили барабаны, подполковник Хохлов поджидал башкир, роты развернули знамена и пошли в штыковой бой.
Над перелесками кружило голодное воронье; северный колючий ветер гнал поземку, леденил лицо, засыпал глаза. Руки прилипали к жгучему, намороженному железу. Солдаты, побросав обозы, голодные, озябшие, тесно прижавшись друг к другу, шли навстречу противнику.
Башкирские всадники врубились в строй, бросали арканы – арканили солдат. Хохлов, в треуголке, с жиденькой косичкой, помахивая сабелькой, покрикивал:
– Не выдавай, братцы, вперед!
Султан с отборными конниками налетел на головную колонну, пришпорил своего скакуна – конь поднялся на дыбы… Подполковник бесстрашно бросился вперед. За ним устремились солдаты; на усатых лицах осел иней, дыхание вырывалось густым паром…
Солдаты, отбиваясь, шли вперед. Били барабаны, визжали стрелы, кричали люди, ржали кони…
На голубоватом снегу алели лужи; снежная поземка жадно зализывала горячую кровь…
На бугре стояли три всадника: тархан Мамед и два его телохранителя. Тархан сквозь пургу видел, как колонны солдат, ощетинившись штыками, уходили в лес…
Трещал мороз, дымила пурга; схватка была жаркая и немилосердная. Обозленные люди крошили друг друга, кололи, обнявшись, падали в снег и погибали…
Наступил шестой час. Над побоищем спустились сумерки. Из-за холмов поднялся ущербленный месяц. На белоснежной равнине валялись побитые люди и кони.
Золотистый скакун Султана лежал с переломленной спиной; из пасти коня пузырилась кровавая пена. Замерзшая нога торчала в синих сумерках бесприютно, как черный перст. Лунный свет холодным блеском отсвечивал на конской подкове… Оставив на поле четыре сотни солдат убитыми и ранеными – башкир полегло вдвое больше, – подполковник Хохлов с большими трудностями пробрался в Солеварный городок, где и отсиживался до прихода казанских войск Аристова и Рыдаря.
Башкирские отряды двинулись в Закамье, поднимая народ. На дороге к Чусовой они напали на демидовский обоз, груженный пушками. Подводчиков разогнали, пушки таскали за собой, но за недостатком пороха и людей, знающих огневую стрельбу, пальбы из них не было.
Перебравшись по льду Камы-реки на казанскую сторону, башкиры осадили дворцовое село Елабугу. Пожар восстания разгорался: за башкирами поднялись татары. Вооруженные чем попало – пиками, луками, просто дрекольем, – восставшие двинулись по казанской дороге и захватили пригород Заинск.
Перебив служилых людей, порубив в бою немало гарнизонных солдат, башкиры пошли на Казань…
4Вести о восстании дошли до царя Петра. Государь готовился к решительной схватке со шведами; отвлечение воинских сил на восток грозило большими бедствиями.
С трудом добрался Никита Демидов до Москвы и поехал к царю. Петр Алексеевич занимал в отцовском дворце маленькую горенку, заставленную токарными станками, плотничными инструментами. На столе лежали карта, компас, записные книжки. На улице стояла теплынь, но печь в горнице была жарко натоплена. Царь недомогал; его слегка знобило. Запахнувшись в теплый халат, он сидел в кресле и, надев круглые, в железной оправе очки, курил неизменную трубку и просматривал новые голландские куранты.
– Демидыч, как дела? – встретил Никиту царь.
Демидов поклонился ему, взглянул исподлобья:
– Плохи, государь. На Каменный Пояс не добраться. По татарским деревенькам мутит народ…
Петр поднялся с кресла, заходил по горнице.
Ходил он слегка сгорбившись, стал мрачным, подергивалась щека. Демидов набрался храбрости и сказал государю:
– Войско бы, Петра Ляксеич, послать на нехристей. Заворовались народишки…
Царь усмехнулся:
– Войско слать? А где его, Демидыч, взять? Ты вот в рудах толк знаешь, а в воинском деле мало смыслишь. – Голос Петра построжал. – Нельзя отсель войско снимать да под Казань слать. Вот-вот шведы нагрянут.
Никита растерялся, развел руками:
– Так что же делать тогда, Петра Ляксеич?
– А ты помозгуй, борода. Сумел заводы ставить, сумей оберегать их. Все царь да царь, а вы-то сами, купцы да заводчики, подумали бы о том.
– Помилуй бог, – упал духом Никита. – На том свет держится. Что мы, купцы да заводчики, без царя? Ровно без головы, да и народ – сирота…
– Ловко загнул! – Петр набил короткую трубочку едким табаком, задымил. Подошел к Демидову, сказал строго: – Вот что: войск слать не буду на башкир; купцам да тебе, Демидыч, раскошеливаться надо. На месте с воеводой ратных людей сбирай да езжай, торопи с пушками.
Он повернул Никиту к двери, подтолкнул в спину:
– Езжай, Демидыч, а в Казани сам увидишь, что надо будет…
Демидов поклонился в пояс царю, помялся, не хотелось уходить, да пришлось. Царская воля – не переступишь…
Глава четырнадцатая
1Лютовали январские морозы, дороги и перепутья заметало сугробами, дворянские усадьбы и деревеньки затерялись в глубоких снегах. Над жильем синели дымки: люди оберегались от стужи. Птица замерзала на лету.
Никита Демидов приехал в Казань. Над Волгой стлался густой туман. На левобережье на бугре высился оснеженный кремль, над башней Сумбеки вилось воронье, да в прозоры грозно глядели пушки. В городе чуялись тревога и настороженность. Служилые люди упрятали семьи в кремль за толстые стены. На торжках кипела давняя бестолочь, но народ держался дерзко; поговаривали о башкирах и беглых холопах, что походом идут на Казань.
Заводчик Демидов остановился на монастырском подворье. Монашеская братия сманила измученного дорогой Никиту в баню, жарко испарила. Поглядывая с горячего полка на сытых монахов, туляк морщил переносье: «Разъелись! Чреслами да волосами, окаянные, на баб схожи. Тьфу, грех один!»
Монахи хлестались вениками на славу; распаренные чернецы выпили не одну корчагу холодного квасу; от горячих тучных телес чернецов валил пар. Отходил мясоед, и братия в предбаннике услаждала чрево холодной телятиной, жирными колбасами да грибочками. Ели страшно – за семерых один. Никита Демидов от еды в бане отказался, про себя укорил монахов: «Чревоугодники!»
После доброй бани и крепкого сна Демидов поехал в кремль к воеводе. На кремлевской площади перед судной избой на глаголях повешены два мужика в лаптях. Ветер раскачивал их трупы.
«Мятежники», – подумал Никита про висельников.
Прохожий стрелец, оскалив зубы, весело крикнул Демидову:
– Доглядывай, как холопы портянки сушат!
На зеленых крышах башен погасал отсвет заката. В дальние кремлевские ворота проехали конные рейтары.
В покоях воеводы жарко натоплено; боярин с породистым лицом, румян, доволен; встретил он Демидова приветливо. У воеводы гостил архиерей. На владыке – шелковая ряса и золоченый наперсный крест. Оба уговаривали заводчика:
– Куда собрался, Демидыч? На дорогах шибко опасно: народишко заворовался.
Никита засунул руку за пояс, тряхнул головой:
– Ничего, побьем заворуев.
Владыка скрестил на чреве пухлые руки, вздохнул:
– Я и то благословляю князя, да отсрочивает. Норовит без того миром поладить.
Воевода, обутый в меховые чулки, ходил тихим, неслышным шагом: руки он заложил за спину и на речь архиерея откликнулся спокойно:
– Время ноне военное; свеи наседают; народишко сердить опасно!
Демидов поморщился:
– Так! А коли они нас прирежут?
Воевода смежил веки, зевнул, перекрестил рот:
– Ой, страхи!
Боярин присел на скамью, скинул с головы бархатную мурмолку – волосы поблескивали серебром.
– Супротивника на сговор брать будем. На то царская воля. Ноне шлю толмача да татаришек для разговоров с ворами…
Демидов подошел к изразцовой печи и прислонился к ней широченной костистой спиной. За слюдяным окном темнело; погасли синие сумерки. Померещились Никите завьюженные заводы, горы; он неожиданно попросил воеводу:
– Доброе дело удумал ты, князь. Резреши с тем толмачом да татаришками ехать мне за соглядатая. Ей-ей, князь, сгожусь.
Воевода от изумления раскрыл рот, глаза округлились:
– Да ты, Демидыч, спусту болтнул, знать?
– Пошто спусту? В самом деле поеду! Ты не гляди, князь, что годов мне много, силы у меня еще немало. – Демидов шевельнул плечами, грудь крепкая, мускулистая.
– Старик, а молодец! – похвалил владыка. – Пусть едет. Голова разумная, и толк будет!
Воевода махнул рукой:
– Там увидим; а не испить ли чего, владыка?
Архиерей сладко прищурил глаза:
– Под гусятинку или под поросеночка, хозяин?
Воевода, поддерживая под локоть владыку, отвел гостей в столовую горницу. На столе горели свечи, освещали обильную еду и сулеи. В них поблескивали меды, наливки, настоянные на травах. Владыка благословил пищу, чмокнул губами:
– Ох, голубь!..
Среди деревянных и оловянных блюд лежал жареный поросенок с румяной корочкой. Никита плотоядно посмотрел на яства и сел за стол.