
Полная версия
Обрученные

– Синьор курато, – обратился к нему один из них, впиваясь глазами в его лицо.
– Что вам угодно? – быстро ответил дон Абондио, поднимая глаза от книги, которая так и осталась у него в руках раскрытой, словно на аналое.
– Вы намереваетесь, – подхватил другой с угрожающим и гневным видом человека, который поймал своего подчиненного при попытке совершить мошенничество, – вы намереваетесь завтра обвенчать Ренцо Трамальино с Лючией Монделлой?
– Собственно говоря… – дрожащим голосом отвечал дон Абондио, – собственно говоря, вы, синьоры, люди светские и отличнейшим образом знаете, как делаются такие дела. Бедняк курато тут ни при чем; они свои пироги сами пекут, ну, а потом… потом являются к нам так, как ходят в банк за деньгами; ну а мы – что же, мы, служители общины…
– Так вот, – сказал ему браво на ухо, однако тоном торжественного приказания, – помните – этому венчанию не бывать ни завтра, ни когда-либо.
– Но, синьоры, – возразил дон Абондио кротким и вежливым тоном человека, который желает уговорить нетерпеливого собеседника, – извольте, синьоры, влезть в мою шкуру. Если бы дело зависело от меня… но вы же отлично знаете, что мне тут ничего не перепадет…
– Ну довольно, – прервал его браво, – если бы дело решалось болтовней, вы бы нас за пояс заткнули. Мы ничего больше не знаем и знать не хотим. Предупреждение вам сделано – вы нас понимаете.
– Но ведь вы, синьоры, люди достаточно справедливые и разумные…
– И все же, – перебил на этот раз другой, до сих пор молчавший, – и все же венчание не состоится, иначе… – тут он разразился цветистой руганью, – иначе тот, кто его совершит, не успеет в этом покаяться, некогда будет… – и он снова выругался.
– Тише ты, тише, – вставил первый, – синьор курато понимает благородное обращение; мы тоже люди благородные и никакого зла ему причинять не собираемся, если он окажется благоразумным. Синьор курато! Преславный синьор дон Родриго, наш патрон, высоко чтит вас.
Имя это пронеслось в сознании дона Абондио, словно вспышка молнии в ночную непогоду, – вспышка, которая на мгновение смутно озаряет все вокруг и только усиливает ужас. Он совершенно непроизвольно отвесил низкий поклон и проговорил:
– Если бы вы мне хоть намекнули…
– Намекать тому, кто латынь знает! – бесцеремонно и зловеще расхохотался браво. – Дело ваше! Но главное, не проболтайтесь – ведь мы сделали это предупреждение исключительно для вашего блага, не то… хм… получится то же самое, как если бы вы совершили это венчание… Ну, так что же нам передать от вас синьору дону Родриго?
– Нижайшее мое почтение…
– Этого мало.
– Готов, всегда готов повиноваться!
Произнося эти слова, он и сам не знал, дает ли он обещание или только говорит любезность. Брави приняли или по крайней мере сделали вид, что принимают его слова всерьез.
– Превосходно! Покойной ночи, сударь, – сказал один из них, уходя с товарищем.
Дон Абондио, который несколько минут назад готов был пожертвовать глазом, чтобы избежать всяких разговоров, теперь хотел продлить беседу и переговоры.
– Синьоры… – начал было он, захлопывая книгу обеими руками, но те, не вняв его обращению, пошли по дороге в том направлении, откуда он пришел, и удалились, напевая песенку, которую я не стану приводить.
Бедняга дон Абондио на мгновение застыл с разинутым ртом, словно зачарованный, а потом пошел по той из двух тропинок, которая вела к его дому, переставляя с трудом, одну за другой, свои словно одеревеневшие ноги. Что касается его самочувствия, то мы разберемся в нем лучше, если скажем кое-что о его характере и о той эпохе, в какую ему довелось жить.
Читатель уже заметил, что дон Абондио от рождения не обладал сердцем льва, к тому же с детских лет он должен был убедиться, что тяжелее всего в те времена приходилось животному, не имеющему ни когтей, ни клыков. А ему вовсе не хотелось, чтобы его проглотили. Сила закона ни в малейшей степени не защищала человека спокойного, безобидного и не имеющего возможности держать в страхе других. Не то чтобы не хватало законов и наказаний за насилия, совершаемые отдельными лицами. Напротив, законы изливались потоками; преступления в них перечислялись и детализировались с необычайным многословием; наказания, и без того до нелепости чрезмерные, могли, в случае необходимости, еще усиливаться чуть ли не в каждом отдельном случае по произволу самого законодателя и сотни исполнителей; судопроизводство направлено было лишь к освобождению судьи от всего, что могло бы ему помешать произнести обвинительный приговор: приведенные нами отрывки указов против брави являются тому малым, но верным образцом. Вместе с тем – а в значительной степени именно потому – все эти указы, повторно объявляемые и усиливаемые каждою новою властью, служили лишь высокопарным свидетельством полного бессилия их авторов. А если и получалось какое-нибудь непосредственное воздействие, то оно выражалось прежде всего усугублением угнетения, которое и без того испытывали мирные и слабые люди от смутьянов, и усилением насилий и козней со стороны последних. Безнаказанность была систематической и покоилась на основаниях, которых указы не затрагивали либо не могли нарушить. Таковыми были право убежища и привилегии некоторых классов, частью признаваемые законом, частью терпимые и замалчиваемые либо впустую оспариваемые, а на деле поддерживаемые этими классами со всей энергией заинтересованности и с ревнивой придирчивостью. Но эта безнаказанность, сделавшись предметом угроз и нападок со стороны указов, бессильных, однако, ее разрушить, естественно, отстаивая себя, должна была при каждой угрозе, при каждом натиске пускать в ход новые усилия и новые выдумки. Так оно и было на деле: при появлении указов, направленных к укрощению негодяев, последние, опираясь на реальную свою силу, изыскивали новые, более подходящие способы, чтобы продолжать то самое, что воспрещалось указами. Указы эти могли тормозить каждый шаг, могли причинять всякие неприятности благонамеренному человеку, бессильному и лишенному чьего-либо покровительства, ибо, задавшись целью держать в своих руках любое отдельное лицо, чтобы предупредить или покарать любое преступление, они подчиняли каждое движение такого лица произвольной прихоти всякого рода исполнителей. Наоборот, тот, кто, приготовившись совершить преступление, принимал меры к тому, чтобы вовремя укрыться в монастырь, во дворец, куда сбиры никогда не посмели бы ступить ногой; кто, без других предосторожностей, просто носил ливрею, которая возлагала на тщеславные интересы какой-либо знатной фамилии или целого сословия обязанность защищать его, – тот был свободен в своих действиях и мог посмеиваться над всеми этими громовыми указами. Да и среди призванных выполнять эти указы одни по рождению принадлежали к привилегированной среде, другие зависели от нее как клиенты – те и другие в силу воспитания, интересов, привычек, подражания усвоили себе принципы этой среды и очень поостереглись бы нарушить их ради клочка бумаги, расклеенного на углах. Далее, люди, которым вверено было непосредственное исполнение указов, будь они даже неустрашимы, как герои, послушны, как монахи, и готовы к самопожертвованию, как мученики, все-таки не могли бы довести дело до конца, поскольку они численно были в меньшинстве по сравнению с теми, кого должны были бы подчинить; весьма велика была для них и вероятность того, что их покинут те, от кого отвлеченно, так сказать теоретически, исходило приказание действовать. А помимо этого, они в большинстве случаев принадлежали к наиболее мерзким и преступным элементам своего времени; порученное им дело презиралось даже теми, кто должен был бы бояться их, и самое звание их было бранным словом. Отсюда вполне естественно, что они, вместо того чтобы рисковать, а тем более ставить на карту свою жизнь в таком безнадежном предприятии, продавали власть имущим свое невмешательство и даже попустительство, оставляя за собой возможность проявлять эту гнусную власть и свою силу в тех случаях, когда им не грозила опасность, то есть, попросту сказать, досаждали притеснениями людям мирным и беззащитным.

Человек, который собирается обижать других или ежеминутно опасается, что его самого обидят, естественно ищет союзников и сотоварищей. Отсюда в те времена было в высочайшей степени развито стремление отдельных лиц держаться определенных группировок, образовывать новые и содействовать возможно большему усилению того круга, к которому они сами принадлежали. Духовенство заботилось о поддержании и расширении своих льгот, знать – своих привилегий, военные – своих особых прав. Торговцы, ремесленники объединялись в цехи и братства, юристы составляли лигу, даже врачи – свою корпорацию. Каждая из этих маленьких олигархий была сильна по-своему; в каждой из них отдельная личность, в зависимости от своего влияния и умения, получала возможность использовать в личных интересах объединенные силы многих. Более добросовестные прибегали к этой возможности только в целях самозащиты; хитрецы и злодеи пользовались ею при выполнении своих преступных замыслов, для которых не хватило бы их собственных средств, и чтобы обеспечить себе безнаказанность. Однако силы различных этих союзов были весьма неравны, особенно в деревне: знатный и богатый насильник, окруженный шайкой брави и крестьянами, которые по исконным семейным традициям привыкли и были заинтересованы, а то и просто вынуждены считать себя как бы подданными и солдатами своего патрона, проявлял такую власть, с которой никакая другая группа в данной местности не могла бороться.
Не знатный, не богатый, еще менее того храбрый, наш Абондио, едва ли не раньше вступления своего в сознательный возраст, приметил, что в этом обществе он подобен сосуду скудельному, который вынужден совершать путь совместно со множеством чугунных горшков. А посему он довольно охотно послушался родителей, которые прочили его в священники. По правде говоря, он не очень раздумывал об обязанностях и о благородных целях того служения, которому он себя посвящал; добыть средства для безбедного существования и попасть в состав уважаемого и влиятельного слоя общества – вот два основания, которых, как ему казалось, было вполне достаточно для оправдания такого выбора. Но всякий общественный слой лишь до известной степени прикрывает и застраховывает отдельную личность, не избавляя ее от необходимости выработать себе свою собственную систему защиты. Беспрерывно поглощенный мыслями о своем спокойствии, дон Абондио не заботился о таких преимуществах, для достижения которых требовалось приложение больших усилий или некоторый риск. Его система заключалась главным образом в том, чтобы избегать всяких столкновений, а уж если их нельзя было избежать, то уступить. Он держался разоруженного нейтралитета во всех войнах, вспыхивавших вокруг него, начиная со столь обычных в ту пору распрей между духовенством и светскими властями, между военными и штатскими, между знатными и другими знатными, вплоть до споров между двумя крестьянами, вспыхивавших из-за какого-нибудь слова и разрешавшихся врукопашную или поножовщиной. Если крайняя необходимость заставляла его занять определенную позицию между тяжущимися сторонами, он становился на сторону более сильную, однако с постоянной оглядкой, стараясь показать другой стороне, что он нисколько не желает быть ее врагом, – он как бы хотел сказать: «Почему ты не сумел оказаться более сильным, я бы тогда стал на твою сторону». Стараясь держаться подальше от сильных, закрывая глаза на их случайные, вызванные капризом притеснения и покорно снося более серьезные и заранее обдуманные, умея вызывать своими поклонами и почтительно-приветливым видом улыбку на лицах более ворчливых и сердитых людей, с которыми он сталкивался на дороге, бедняга ухитрился без больших треволнений перевалить за седьмой десяток.
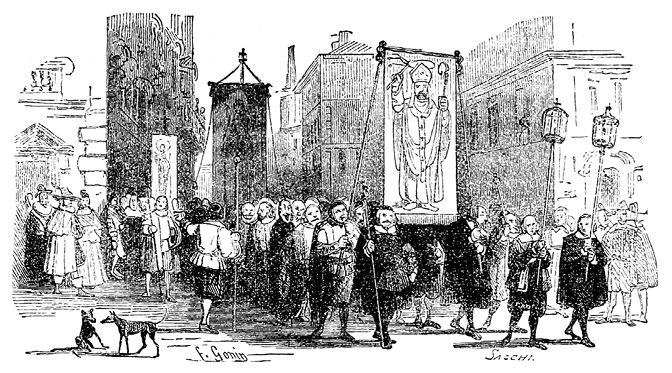
Нельзя, однако, сказать, чтобы это не оставило в его душе известной горечи. Постоянное испытание терпения, столь частая необходимость уступать другим и молчаливо проглатывать обиды – все это настолько раздражало его, что, если бы он время от времени не давал выхода своим чувствам, его здоровье неминуемо пострадало бы. Но так как в конце концов на свете, даже совсем рядом с ним, были люди, неспособные, как он знал, обижать других, то он мог иногда срывать на окружающих долго подавляемое дурное настроение, позволяя себе некоторые причуды и покрикивая на них без всякого основания. Он любил также быть строгим критиком людей, которые не умели держать себя в узде, но делал это лишь тогда, когда эта критика не грозила ему ни малейшими, хотя бы и отдаленными, последствиями. Всякий потерпевший был в его глазах по меньшей мере неосторожным человеком; убитый всегда оказывался смутьяном. А если кто-нибудь, принявшись отстаивать свои права против человека сильного, выходил из драки с разбитой головой, дон Абондио всегда умел найти за ним какую-нибудь вину: дело нехитрое, ибо между правотой и виной никогда ведь нельзя провести такой отчетливой грани, чтобы одна целиком была по одну, а другая по другую ее сторону. Больше же всего нападал он на тех своих собратьев, которые на собственный риск и страх принимали сторону обижаемого человека против всесильного притеснителя. Это он называл «покупать себе хлопоты за наличные деньги» и «желать выпрямить ноги у собаки»; он строго говорил также, что это – вмешательство в мирские дела, несовместимое с достоинством пастырского служения. И он громил таких людей, всегда, впрочем, с глазу на глаз или в самом тесном кругу, с тем бо́льшим пылом, чем больше собеседники были известны своей неспособностью возражать там, где дело касалось их самих. При этом у него было любимое изречение, которым он неизменно заканчивал разговоры на эту тему: «У порядочного человека, который следит за собой и знает свое место, никогда не бывает неприятных столкновений».
Так пусть же представят себе мои немногочисленные читатели, какое впечатление должно было произвести на беднягу все изложенное. Ужас перед этими зверскими физиономиями и страшными словами; угрозы со стороны синьора, который славится тем, что угрожает не зря; налаженное спокойное существование, стоившее стольких лет усилий и терпения, а теперь разом разрушенное; наконец, предстоящий шаг, от которого неизвестно, как избавиться, – все эти мысли беспорядочно кружились в поникшей голове дона Абондио. «Если бы удалось отправить Ренцо с миром, решительно отказав ему, – куда ни шло; но ведь он потребует объяснения – а что же, ради самого Неба, мне ему отвечать? Опять же… у него есть голова на плечах; пока никто его не трогает, он чистый ягненок; зато, если кто вздумает ему перечить, – о!.. А тут еще он совсем голову потерял из-за этой Лючии, влюблен, как… Паршивцы этакие! Влюбляются от нечего делать, затевают свадьбу и ни о чем больше не думают; им и дела нет до тех неприятностей, которым они подвергают порядочного человека. Горе мне! Ведь нужно же было этим двум мерзавцам встать на моем пути и взяться за меня! При чем тут я? Разве я собираюсь жениться? Почему не пошли они разговаривать с…? Ну, вот подите же, – такая уж моя судьба: хорошие мысли всегда приходят мне в голову задним числом. Что бы мне догадаться надоумить их пойти со своим поручением к…».

Но тут он сообразил, что раскаиваться в том, что не сделался советником и соучастником в неправом деле, пожалуй, совсем уже плохо, и обратил весь свой гнев на того, другого, лишившего его привычного покоя. Он знал дона Родриго с виду и понаслышке, но никогда не имел с ним никаких дел. Только в тех редких случаях, когда дон Абондио встречал его на дороге, подбородок его сам касался груди, а тулья шляпы – земли. Не один раз случалось ему вступаться за доброе имя этого синьора против тех, кто шепотком, со вздохами и возведением очей к небу осуждал какой-нибудь его поступок: сотни раз он уверял, что это вполне почтенный дворянин. Но в данную минуту он в душе награждал его такими прозвищами, каких никогда не выслушивал из чужих уст без того, чтобы тут же не прервать говорившего неодобрительным оханием. Полный этих тревожных мыслей, добрался он до дверей своего дома, стоявшего на краю селения, торопливо сунул в замок заранее приготовленный ключ, отпер дверь, войдя, старательно запер ее за собой и, стремясь всей душой очутиться в благонадежном обществе, тут же принялся звать: «Перпетуя! Перпетуя!» – направляясь в небольшую гостиную, где она, наверное, накрывала стол к ужину. Нетрудно догадаться, что Перпетуя была служанкой дона Абондио, служанкой верной и преданной, умевшей, смотря по обстоятельствам, когда надо – сносить воркотню и причуды хозяина, а когда надо – заставлять его переносить ее собственные, становившиеся с каждым днем все более частыми, с тех пор как она переступила сорокалетний – «синодальный» – возраст, оставшись в девицах по причине отказа, как она уверяла, от всех сделанных ей предложений либо, как говорили ее приятельницы, по причине того, что ни один пес не пожелал к ней присвататься.
– Иду! – отвечала она, ставя на стол, на обычное место, кувшинчик любимого вина дона Абондио, и медленно двинулась на зов; но не успела она дойти до порога комнаты, как дон Абондио уже входил тяжелой поступью, с мрачным взглядом и расстроенным лицом. Опытный глаз Перпетуи сразу заметил, что случилось что-то поистине необычайное.
– Милосердный Боже! Что с вами, синьор хозяин?
– Ничего, ничего, – отвечал дон Абондио и, тяжело дыша, опустился в свое огромное кресло.
– Как так ничего? И это вы говорите мне? У вас такой ужасный вид! Не иначе как случилось что-нибудь!
– Ради самого Неба! Когда я говорю – ничего, значит – ничего, либо что-нибудь такое, чего я не могу сказать.
– Не можете сказать даже мне? А кто же будет заботиться о вашем здоровье? Кто вам подаст добрый совет?
– Боже мой! Да замолчите же вы! Не надо мне ничего, а дайте-ка мне лучше стакан моего любимого вина.
– И вы меня будете уверять, что ничего не случилось? – сказала Перпетуя, наполняя стакан и не выпуская его из рук, словно собираясь отдать его не иначе как в награду за тайну, которую она так жаждала узнать.
– А ну дайте сюда, дайте! – сказал дон Абондио, взяв стакан не совсем твердой рукой и быстро опорожнив его, словно лекарство.
– Так вы, значит, хотите, чтобы я вынуждена была повсюду ходить и расспрашивать, что такое стряслось с моим хозяином? – сказала Перпетуя, стоя перед ним, руки в бока и выпятив вперед локти, пристально глядя на него, словно желая вырвать тайну из его глаз.
– Ради самого неба! Не разводите сплетен, не поднимайте шума – тут можно ответить… головой.
– Головой?
– Да, головой…
– Вы же отлично знаете – всякий раз, когда вы со мной говорили о чем-нибудь откровенно, по секрету, я ведь никогда…
– Что уж говорить! Вот, например, когда…

Перпетуя поняла, что задела не ту струну. А потому, тут же изменив тон, промолвила взволнованным голосом, способным растрогать собеседника:
– Дорогой хозяин, ведь я всегда была к вам привязана; если я теперь хочу узнать, то ведь это из усердия: мне хочется помочь вам, дать добрый совет, поддержать вас…
В сущности говоря, сам дон Абондио, пожалуй, стремился освободиться от своей мучительной тайны так же страстно, как Перпетуя стремилась ее узнать, вот почему, отбивая все слабее и слабее новые и все более напористые атаки с ее стороны и предварительно заставив ее поклясться несколько раз в том, что она никому – ни гугу, он в конце концов с многократными перерывами, ахами и охами рассказал ей злосчастное свое приключение. Когда же дошло до страшного имени главного зачинщика, Перпетуя должна была принести новую, особо торжественную клятву – и дон Абондио, произнося роковое имя, с тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла и, воздевая руки, как бы приказывая и вместе с тем умоляя, произнес:
– Но ради самого Неба…
– О господи! – воскликнула Перпетуя. – Ах он негодяй, ах тиран! Нет у него страха Божьего!
– Замолчите вы! Или вы хотите совсем погубить меня?
– Да что вы! Мы тут совсем одни, никто не услышит. Но что же вы будете делать, бедный мой хозяин?
– Вот видите, – ответил с раздражением дон Абондио, – видите, какие вы мне умеете давать советы. Только от вас и слышишь: что делать да что делать, как будто попали впросак вы и мне приходится вас выручать.
– Да нет же, я что? Пожалуй, я бы и подала какой ни на есть совет, только будет ли толк?
– Ну, там посмотрим!
– Мой совет такой: ведь вот все говорят, что наш архиепископ человек святой и влиятельный и никого-то он не боится, а когда ему удается проучить одного из этих тиранов и защитить какого-нибудь курато, он так весь и ликует. Так я вот что скажу: напишите-ка вы ему письмо, да хорошее, и разъясните ему, что и как…

– Да замолчите же вы наконец! Вот какие советы даете вы несчастному человеку! Если бы, избави Боже, мне всадили заряд в спину, архиепископ, что ли, стал бы со мной возиться?
– Ну, выстрелами-то зря не сыплют – это вам не конфетти! Да и псы эти, хоть и лаются, но не всегда же кусают. А я вот заметила: кто умеет показать зубы и заставить уважать себя, тем и почет и уважение; а потому, что вы никогда не хотите высказывать своего мнения, мы и дошли до того, что, с позволения сказать, каждый…
– Замолчите же!
– Что ж, я замолчу! А все-таки правильно: если весь свет видит, что кто-нибудь всегда, при всякой оказии, тут же готов спустить паруса…
– Замолчите вы или нет? Время ли теперь болтать всякую чепуху?
– Ну, будет! Успеете надуматься за ночь. Только зачем же причинять себе вред и портить здоровье? Скушали бы кусочек…
– Да, я подумаю, – отвечал, ворча, дон Абондио, – конечно подумаю; есть о чем подумать. – И он поднялся, прибавив: – Есть я ничего не хочу, ничего – не до того сейчас, я сам знаю, что выкручиваться придется мне одному. Но надо же, чтобы это стряслось именно со мной!

– Вы бы хоть еще глоточек пропустили, – сказала Перпетуя, наливая вина. – Вы ведь знаете, как это всегда помогает вашему желудку.
– Ах, не до того, не до того теперь, совсем не до того!.. – С этими словами он взял свечу и отправился наверх в свою комнату, ворча про себя: «Пустяки, подумаешь! Это с таким-то благородным человеком, как я! Что-то будет завтра?» Уже на пороге комнаты он обернулся к Перпетуе и, приложив палец к губам, медленно и торжественно произнес: – Ради самого Неба! – и скрылся.

Глава вторая


Существует рассказ, будто принц Конде спал крепким сном в ночь накануне битвы при Рокруа. Но во-первых, он был очень утомлен, а во-вторых, он уже отдал все необходимые распоряжения и окончательно установил, что предстоит ему делать утром. Наоборот, дон Абондио не знал ничего, кроме того лишь, что назавтра предстоит бой, поэтому значительную часть ночи он потратил на тревожные размышления. Не придавать значения разбойничьим застращиваниям и угрозам и совершить венчание – такое решение он даже не стал и обдумывать. Рассказать Ренцо обо всем случившемся и вместе с ним поискать выхода… – Боже избави! «Не проболтайтесь… а иначе…» – сказал один из брави, и, вспомнив, как угрожающе прозвучало это «а иначе…», дон Абондио не только не посмел подумать о нарушении такого приказания, но, больше того, – его взяло раскаяние, что он позволил себе проболтаться Перпетуе. Бежать? Но куда? И что потом? Сколько будет хлопот! Только и делай, что отчитывайся! Каждое отвергнутое решение заставляло беднягу беспокойно ворочаться на постели. Во всяком случае, наилучшим и самым безопасным, как ему казалось, было следующее: выиграть время, всячески водя за нос Ренцо. Кстати, он вспомнил, что оставалось всего несколько дней до поста, когда запрещено венчаться. «И если я на несколько дней сумею попридержать этого паренька, то потом у меня будет два месяца передышки; ну а за два месяца много воды утечет». Он обдумывал разные доводы, какие можно было бы привести, и хотя они показались ему несколько легковесными, все же он успокаивал себя мыслью, что его авторитет сообщит этим доводам подобающий вес, а давний опыт даст ему большое преимущество перед невежественным юнцом. «В самом деле, – говорил он себе, – он думает о своей возлюбленной, ну а я думаю о своей шкуре; я больше заинтересован, не говоря уже о том, что я и похитрее. Дорогой сынок, если уж тебе так приспичило, я тут ни при чем, во всяком случае – расплачиваться за тебя я не желаю». Несколько успокоившись на принятом решении, он наконец смежил очи. Но какой сон и какие сновидения! Брави, дон Родриго, Ренцо, тропинки, скалы, бегство, преследование, крики, выстрелы…






