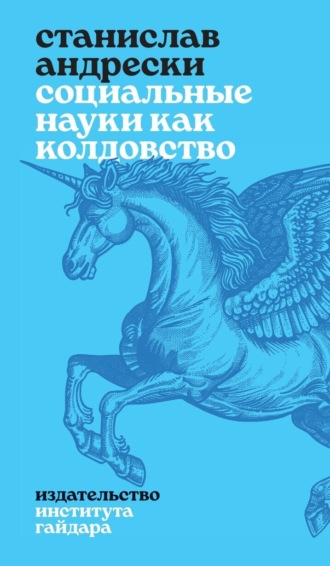
Полная версия
Социальные науки как колдовство
Если бы мы были по размерам не больше электрона, у нас не было бы впечатления стабильности, которая обусловлена исключительно грубостью наших органов чувств. Кингс-Кросс, представляющийся нам столь прочным, был бы слишком большим, чтобы его вообще мог кто-либо постичь, не считая немногих эксцентричных математиков. Те его фрагменты, которые мы могли бы видеть, состояли бы из мельчайших точек материи, которые никогда не соприкасаются друг с другом, но постоянно носятся друг вокруг друга в непостижимо быстрой балетной партии. Мир нашего опыта был бы столь же безумным, что и мир, в котором разные части Эдинбурга гуляют в разных направлениях. Если же – возьмем прямо противоположный пример – вы были бы величиной с Солнце и жили бы столь же долго, с соответствующей медлительностью восприятия, вы опять же обнаружили бы беспорядочный универсум безо всякого постоянства – звезды и планеты появлялись бы и исчезали подобно утреннему туману, и ничто не сохранялось бы в постоянном положении относительно чего бы то ни было другого. Представление об относительной стабильности, образующее основу нашего повседневного взгляда на вещи, обусловлено, таким образом, тем, что мы именно такого размера, а не другого, и что мы живем на планете, поверхность которой не слишком горяча. Если бы это было не так, мы, вероятно, не сочли бы дорелятивистскую физику в интеллектуальном плане удовлетворительной. Собственно, мы бы, вероятно, никогда бы и не изобрели таких теорий. Нам пришлось бы сразу, одним прыжком, дойти до релятивистской физики или же остаться в полном неведении о существовании научных законов. Нам повезло, что эта альтернатива нас миновала, поскольку почти невозможно представить, как один человек мог бы выполнить труд Евклида, Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Однако без такого невероятного гения физику вообще вряд ли бы открыли в мире, в котором очевидностью ненаучного наблюдения была бы всеобщая текучесть[2].
Вышеприведенный отрывок прекрасно иллюстрирует то, с чем нам приходится иметь дело при изучении общества и культуры, поскольку он указывает на чисто интеллектуальные сложности такого предприятия и объясняет, насколько проще физика, химия и даже биология. Но и это еще не все: представьте только, насколько печальна была бы участь ученого-естественника, если бы объекты его исследования взяли себе в привычку реагировать на то, что он о них говорит, то есть если бы вещества могли прочесть или услышать то, что химик пишет или говорит о них, и изготовились выпрыгнуть из своих контейнеров и сжечь его, как только им не понравится то, что они увидели на его доске или в блокноте. Представьте трудности проверки химических формул, которые возникли бы в том случае, если бы химик, повторяя их достаточно долго и достаточно убедительным тоном, мог заставить вещества подчиниться этим формулам – но с тем именно риском, что они могут и досадить ему, действуя наперекор. В подобных обстоятельствах наш химик не только испытывал бы значительные трудности в попытке выявить устойчивые закономерности в поведении своих объектов, но и вынужден был бы тщательно выбирать слова, иначе вещества могли бы обидеться и напасть на него. Его задача стала бы еще более безнадежной, если бы химические вещества смогли понять его тактику, организоваться для защиты своих интересов и разработать контрмеры, препятствующие его маневрам, – и все это прямо соответствовало бы тому, с чем приходится сталкиваться исследователю человеческих дел и поступков.
С другой стороны, нам нет нужды излишне осложнять себе задачу, ставя ее в зависимость от учения о всеобщем детерминизме и в особенности от предположения, что человеческое поведение можно изучать научным путем (то есть с целью обнаружения в нем закономерностей) только в том случае, если никакой свободы воли не существует[3].
Нет причин отрицать существование феноменов, известных нам только благодаря интроспекции; некоторые философы указали на невозможность выполнения программы Карнапа (принимаемой бихевиористами за догму), то есть перевода всех утверждений о психических состояниях на «физикалистский язык», как он его называет. Я бы пошел еще дальше и сказал, что и физику невозможно выразить на одном только физикалистском языке, поскольку она является эмпирической наукой только в той мере, в какой включает в себя утверждение о том, что ее теории подтверждаются данными чувств; но мы не можем приписать последнему термину, то есть чувствам, какой-либо смысл, не предполагая при этом понятия субъекта. Если попросить физика рассказать, как он проверил такую-то гипотезу, он скажет: «Я сделал то-то и то-то; и я увидел то-то и то-то…» Если вы ему не верите, он пригласит вас принять участие в эксперименте, и вы можете затем сказать: «Да, я тоже вижу… вот это двигается сюда и сюда… я вижу теперь вот этот цвет, линию или что там у вас». Следовательно, вы не можете представить отчет об эмпирических основаниях физики, не услышав и не высказав местоимение «я». Но какой именно смысл вы можете приписать этому слову, если не использовать знание, полученное благодаря интроспекции, и если не постулировать наличие других разумов, процессы в которых похожи на те, что в наблюдении доступны только вам одному?
Чтобы добиться прогресса в понимании общества, нет необходимости соглашаться даже и с аргументами в пользу остаточной неопределенности человеческих действий. На самом деле пока есть все основания воздержаться от суждения по этому вопросу, поскольку ни детерминизм, ни индетерминизм нельзя проверить в качестве онтологических принципов, а потому они должны оставаться положениями метафизической веры. Детерминизм можно было бы доказать только в том случае, если бы была достоверно доказана последняя причина последнего, ранее не объясненного события; индетерминизм же можно было бы доказать только когда, если бы можно было безо всякой тени сомнения сказать, что этого никогда не случится. Иначе говоря, чтобы доказать детерминизм, нам пришлось бы показать то, что однажды знание неизбежно станет полным; и хотя невозможно доказать, что этого не произошло или не произойдет в божественном разуме, для смертных достижение такого знания представляется совершенно невероятным. Кроме того, можно утверждать, что полная предсказуемость внутренне невозможна в случае системы, частью которой является сам наблюдатель-предсказатель, ведь его действия (в том числе и его предсказания) влияют на другие события. Поскольку тогда его предсказания должны составлять часть причинно-следственных цепочек, возникающих в системе, он мог бы делать предсказания только в том случае, если бы мог предсказывать также и свои предсказания, что было бы возможным только тогда, когда он мог бы предсказывать свои предсказания предсказаний… и так далее до бесконечности.
К счастью, для наших исследований нам не нужно принимать учение о всеобщем детерминизме. Достаточно предположить, что многие явления поддаются причинно-следственному объяснению, что не все возможные причинные объяснения известны и что можно открыть новые. Этого достаточно для оправдания научного предприятия как такового, однако в качестве логически непротиворечивого метафизического взгляда индетерминизм можно переформулировать в качестве представления (которое я лично также разделяю) о том, что смертные никогда не достигнут стадии, на которой их знания станут совершенно полными и больше будет нечего открывать.
Теперь позвольте мне сказать несколько слов о часто задаваемом вопросе, является ли какая-либо из «социальных наук» «настоящей» наукой. И, как часто бывает в подобных спорах, аргументы и «за» и «против» упускают одну очевидную истину, а именно то, что ответ на этот вопрос зависит от того, что мы имеем в виду под наукой. Если мы имеем в виду такую точную науку, как физика или химия, тогда экономика, психология и социология, как и любое другое исследование человеческого поведения, науками не являются. Если же мы признаем, что этим почетным титулом можно наградить любое систематическое исследование, направленное на тщательные описания, содержательные объяснения и обобщения, опирающиеся на факты, тогда можно сказать, что вышеупомянутые отрасли исследований действительно являются науками, хотя обоснованность такого именования будет зависеть от того, чем именно мы его оправдываем – устремлениями или реальной деятельностью, высокими достижениями или же средними. Так или иначе, вербальную природу этого спора можно доказать, переведя его на другой язык, поскольку он попросту исчезнет, если сформулировать его на немецком, русском или польском, и значительно утихнет на французском или испанском. В Британии же он сопровождался известной горячностью лишь по причине характерного для нее довольно жесткого разделения на «искусства» и «науки» в английских школах; а также потому, что он неплохо служит для игры, в которой одни пытаются получить статус, а другие в нем отказывают.
Если мы не считаем всеобщий детерминизм необходимым основанием исследования человеческого поведения, мы не должны противиться идее личной ответственности. Многие психологи критикуют правосудие, основанное на представлении о свободе воли и ответственности, не понимая при этом, что детерминизм, если он действительно верен, применим к любому: если преступник не может избежать совершения преступления, то и судья не может не вынести ему приговор, а палач не может не четвертовать его. Если только не признать того, что индивиды могут принимать решения и отвечать по крайней мере за некоторые из своих деяний, нет причин, по которым мы должны были бы считать то или иное действие хорошим или дурным или же стараться не причинять вред другим людям; и точно так же любые моральные увещевания становятся тогда бессмысленными[4].
Учение о психологическом детерминизме, понимаемое в качестве доказательства несуществования ответственности, снимает вину с деятелей апартеида и с полицейских, занимавшихся пытками в Бразилии, а также с малолетних преступников, но на практике этот аргумент применяется весьма избирательно, в соответствии с предпочтениями «ученого», в которых отражаются его давно сложившиеся симпатии и антипатии, в том числе и подавленные. Все это в значительной степени сводится к тому, что психологи, социологи и особенно психиатры играют в Господа Бога, заимствуя свой престиж у наук, чтобы навязать обществу свои, часто довольно грубые, моральные понятия. Как я попытаюсь показать в этой книге, обличение понятия ответственности, основанное на недоказанной догме психологического детерминизма, во многом способствовало подрыву основ нашей цивилизации.
Эти методологические затруднения, хотя и пугающие, представляются тривиальными в сравнении с фундаментальными препятствиями развитию точной науки об обществе, которые ставят ее в совершенно иное положение по сравнению с естественными науками: речь о том факте, что люди реагируют на сказанное о них. «Эксперт» по человеческому поведению напоминает колдуна, своими заклинаниями способного накликать урожай или дождь в большей мере, чем его коллеги, занимающиеся естественными науками. А поскольку факты, с которыми он имеет дело, верифицировать удается редко, его клиенты могут попросить его говорить им то, что им хочется слышать, и накажут несговорчивого заклинателя, который упорно говорит то, что они предпочли бы не знать – подобно тому, как монархи некогда наказывали придворных врачей, если те не могли их вылечить. Кроме того, когда люди хотят достичь своих целей, влияя на других, они всегда будут пытаться завлечь, запугать или же подкупить колдуна, дабы он применил свои способности им на пользу и прочитал нужное заклинание… или по крайней мере рассказал им нечто приятное. И почему он вообще должен сопротивляться угрозам или искушениям, если в его дисциплине доказать или опровергнуть что-либо настолько сложно, что он может безнаказанно поступать так, как ему захочется, учитывая приязни или неприязни своих слушателей или даже просто сознательно торгуя враньем. Его дилемма проистекает, однако, из того, что в какой-то момент ему будет сложно вернуться обратно; ведь вскоре он пройдет точку невозврата, после которой крайне болезненно признаваться себе в том, что он потратил годы на погоню за химерами, не говоря уже о том, что он воспользовался доверчивостью публики. Тогда, чтобы успокоить гложущие его сомнения, тревогу и чувство вины, он должен будет выбрать линию наименьшего сопротивления, плетя еще больше значительно более сложных сетей вымысла и лжи, на словах при этом еще сильнее заявляя о своей решительной приверженности идеалам объективности и истины.
Если посмотреть на практические следствия умножения числа специалистов по социальным наукам, мы найдем больше сходств с ролью колдунов в первобытном племени, чем с той ролью, которую представители естественных наук и технологи играют в промышленном обществе. Позже мы исследуем все странные особенности политологов и создателей социологических систем, однако в целом они уклоняются от прагматического испытания, поскольку сложно найти примеры важных общественно-политических решений, которые были бы основаны на их рекомендациях. Та их разновидность, что, вероятно, оказала наиболее глубокое влияние на человеческое поведение, – это психологи и семейные социологи, которые, в общем-то, добились, особенно в Америке, того, что навязали обществу свои взгляды на природу человека, а потому и существенно повлияли на поведение своих клиентов.
Психология, если понимать ее прямо, – это, пожалуй, самая сложная из всех наук, будь то естественных или социальных, поскольку в ней человек пытается вытащить самого себя за волосы, используя разум для понимания разума; и, соответственно, серьезные открытия в ней случаются редко, причем они всегда остаются приблизительными и предварительными. Однако большинство психологов не любят признавать это, предпочитая делать вид, что они говорят с авторитетностью точной науки, являющейся не только теоретической, но и прикладной. Чтобы исследовать обоснованность подобных утверждений, я хотел бы предложить простой, грубый и уже известный критерий.
Когда определенная профессия предоставляет услуги, основанные на хорошо обоснованном знании, мы можем обнаружить выраженную положительную связь между числом специалистов (относительно численности населения) и достигнутыми результатами. Так, в стране, где много специалистов по телекоммуникациям, телефонная связь в обычном случае будет лучше, чем в стране, в которой таких специалистов мало. Уровень смертности должен быть ниже в странах или регионах, где больше врачей и медсестер, чем в местах, где их не слишком много. Бухгалтерия обычно ведется лучше в тех странах, где много профессиональных бухгалтеров, чем там, где они в дефиците. Мы могли бы привести много примеров, однако сказанного уже достаточно для прояснения этой мысли.
Теперь посмотрим, какую же пользу принесли социология и психология. Конечно, можно утверждать, что это чисто спекулятивные отрасли исследований, которые пока не имеют никакого практического применения, что само по себе могло бы стать непротиворечивой, хотя и не слишком популярной точкой зрения, которая, однако, подняла бы вопрос о том, стоит ли столь многим людям со скромными умственными способностями заниматься столь пространными теоретическими построениями. Таким образом, чтобы исследовать обоснованность утверждения о том, что все это в высшей степени полезные отрасли знаний, спросим сначала о том, в чем именно должен заключаться их вклад в благосостояние человечества. Если судить по учебникам и учебным курсам, практическая полезность психологии заключается в том, что она должна помочь людям найти свою нишу в обществе, безболезненно приспособиться к нему и начать жить в довольстве и гармонии со своими близкими. Таким образом, в странах, регионах, институтах или секторах с широким применением услуг психологов семьи должны быть устойчивее, узы между супругами, родственниками, родителями и детьми – прочнее и теплее, отношения между коллегами – гармоничнее, обращение с получателями социальных пособий – лучше, а вандалов, преступников и наркоманов там должно быть меньше, чем в местах или группах, которые не пользуются услугами психологов. На этом основании мы должны сделать вывод, что благословенной страной гармонии и мира являются, безусловно, США, причем в последнюю четверть века все больше и больше, соответственно росту числа социологов, психологов и политологов. Могут возразить, что этот аргумент неверен, то есть причинно-следственная связь имеет прямо противоположное направление: рост наркомании, преступности, разводов, расовых бунтов и других социальных бед создает спрос на большее число целителей. Возможно, это и правда так; однако, даже если согласиться с этим взглядом, приток терапевтов все равно не принес никаких улучшений. Тогда как ускорение роста их числа непосредственно перед резким подъемом кривых преступности и наркомании может указывать на то, что они, возможно, усугубляют эти болезни, а не лечат их. На это же указывают и некоторые другие малозаметные признаки.
Позвольте задать следующий вопрос: какая сфера деятельности в США наименее эффективна? И в какой занято больше всего психологов и социологов? Ответ прост: в образовании. Но в какой области качество продукта падало быстрее всего, хотя число психологов и социологов быстрее всего росло? Ответ все тот же: в сфере образования. Если же сравнить состояние американского образования не с другими секторами общества, а с образованием в других странах, мы получим схожий результат. Где, собственно, учебные заведения нанимают больше (пропорционально общей численности населения) психологов, социологов и их всевозможных гибридов? Вопрос риторический – в Америке. Тем не менее, если оценивать по объему преподанных знаний (а не по числу выданных дипломов) относительно затраченных средств, тогда американские учебные заведения, безусловно, самые неэффективные в мире, не исключая даже беднейших стран Африки и Латинской Америки. Я не думаю, что где бы то ни было еще в мире вы можете найти студентов, посещавших учебное заведение по крайней мере 12 лет, но при этом с трудом читающих, что не редкость в американских университетах. Более того, учебные заведения становились все хуже, когда число работников социологии, психологии и образования росло[5]. Возможно, все это просто совпадение. Однако ни в одной другой стране вы не можете стать профессором престижного университета, не научившись сначала правильно писать. И я говорю не об иностранцах или тех, у кого другой родной язык, но о мужчинах и женщинах, не знающих иного языка, кроме американского английского, но все равно нарушающих правила английской грамматики и применяющих слова, не обращая никакого внимания на словарь Уэбстера. В каких же дисциплинах их особенно много? Безусловно, в социологии, психологии и образовании; а сегодня все больше и в антропологии, политологии и даже истории, поскольку эти дисциплины тоже становятся «научнее». Поэтому, возможно, не будет большой натяжкой сказать, что падение качества образования, вероятно, как-то связано с распространением социальных наук – конечно, не в силу какой-либо логической необходимости, но именно из-за характера, приобретенного этими дисциплинами.
Все эти тенденции не ограничиваются США, и в других странах также наблюдается падение стандартов литературного высказывания, коррелирующее с распространением социальных наук. Возможно, здесь стоит отметить, что тест на словарный запас, который проходили студенты в Англии, показал, что студенты, изучающие социальные науки, имеют более ограниченный вокабуляр, чем остальные студенты, включая инженеров и физиков, которые работают не со словами, а с математическими символами. В результате мы видим людей, которые разглагольствуют о великих проблемах коллективной жизни, возникших в ходе развития нашей цивилизации, и в то же время эти люди не научились правильно писать на родном языке.
Даже крупный бизнес становился менее эффективным с увеличением числа нанимаемых социологов и психологов, что, конечно, не доказывает, что они и есть причина ухудшения ситуации, но все же ставит их пользу под определенное сомнение. Есть, однако, одно особое применение, которое можно найти для психолога (по крайней мере психоаналитического направления): в некоторых учреждениях, когда рабочий начинает слишком много требовать, его можно направить к психологу, который откопает у него всевозможные инсцестуозные и гомосексуальные желания и тем настолько напугает бедного рабочего, что тот забудет о нужной ему надбавке.
Во Франции недавнему развалу системы образования предшествовал быстрый рост числа социологов и психологов, а в некоторых других странах наблюдалась, судя по всему, положительная, хотя и грубая корреляция между ростом числа семейных консультантов и детских психологов, с одной стороны, и уровнем разводов и наркомании – с другой. Конечно, не считая возможности чистого совпадения, такая связь может на самом деле означать, что обострение социальных проблем повысило спрос на услуги подобных экспертов, что и привело к росту их числа. Но в любом случае можно сделать вывод: все эти эксперты помочь не смогли; и нельзя исключать того, что своей неправильной терапией они даже ухудшили ситуацию. Если мы видим, как по прибытии пожарной бригады пламя становится ярче, можно задаться резонным вопросом: чем же они его поливают – может, маслом?
В вопросах образования, личных отношений, воспитания детей, отношения к браку или дружбе влияние психологии и психологической социологии было весьма значительным, особенно в Америке, которая, судя по всему, находится под властью фрейдизма в той же мере, что и Россия – под властью марксизма, хотя это и не означает, что основатели этих течений одобрили бы то, что от их имени делается в каждой из этих двух стран, особенно учитывая тот исторический факт, что Маркс ненавидел Россию, а Фрейд презирал Америку. Вряд ли последователи Маркса следовали его учению в решении важных общественно-политических вопросов после захвата власти, а в капиталистических странах с политологами или антропологами, возможно, консультировались как с носителями конкретных знаний о далеких странах, однако мне неизвестны случаи, когда бы на те или иные важные решения повлияли выводы, сделанные исходя из социологических или политических теорий… что, возможно, и к лучшему. Поэтому мы вряд ли можем винить политологов или макросоциологов в том, что они сыграли активную роль в современных общемировых бедах; однако для того, чтобы оценить их пользу для человечества, мы должны взглянуть на то, что они пытались сделать. Они заслуживают определенного уважения, если мы можем найти примеры советов или предсказаний, которые, возможно, не были учтены людьми, принимающими решения, но при этом получили общее признание в рамках их профессии и которые, если судить в ретроспективе, могли бы считаться правильными или по крайней мере более правильными, чем мнение людей непосвященных. Лично я не думаю, что примеры такого рода существуют, но, если они кому-то известны, я был бы счастлив о них услышать.
Конечно, есть отдельные мыслители, которые делали удивительно проницательные предсказания. Как можно понять из недавно изданных сборников статей Парето и Моски, в начале XX века они предсказали (видимо, независимо друг от друга), причем с достаточными подробностями, что будет представлять собой система, которая возникнет при осуществлении марксистской программы, хотя ни один из них не сказал, что такая система и правда будет создана. То есть это были весьма смелые утверждения, которые, хотя они и не являлись строгими выводами из теорий этих авторов, тем не менее были достаточно тесно связаны с ними. Примерно в то же время Макс Вебер сделал более пространное, хотя и менее детальное предсказание, заявив о победе бюрократии над капитализмом в западном мире. Маркс, будучи не только ученым, но и пророком, высказал много пророчеств, которые не сбылись, однако он, безусловно, был прав в том, что касается движения к концентрации контроля над производством. Токвиль же, вообще не склонный к мессианству, к пророчествам относился с гораздо большей осторожностью, чем указанные авторы, но при этом оказался лучшим пророком, чем любой из них, поскольку он вряд ли сделал хоть одно предсказание, оказавшееся совершенно ложным. Однако все эти примеры, к которым можно было бы добавить и некоторые другие, представляют собой, по сути, исключительные подвиги воображения и проницательности, ставшие возможными, конечно, благодаря глубокому пониманию природы человеческого общества, но не основанные на каком-либо общепризнанном корпусе знаний.
Если посмотреть на представления, широко распространенные в среде специалистов по социальным наукам, мы увидим, что в них очень мало того, что может объясняться более глубоким профессиональным пониманием; и, если не считать отдельных обрывков информации о фактах, они следовали и продолжают следовать за общепринятыми интеллектуальными модами: они придерживались ура-патриотизма в начале Первой мировой, пацифизма в 1920-е годы, стали леваками в 1930-е, превозносили конец идеологии в 1950-е, наконец, увлеклись культурой молодежи и пополнили ряды новых левых к концу 1960-х. Конечно, во многих ситуациях специалисты по социальным наукам разделились в своих мнениях по серьезным проблемам современности, но в целом по тем же линиям, что и лавочники или конторские служащие… и это говорит о том, что их якобы профессиональные знания вряд ли вообще что-то значили. В целом их специальные знания не влекут значительного расхождения с господствующим мнением их класса, которым является, разумеется, не буржуазия, а класс дипломированных специалистов.



