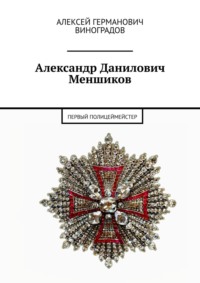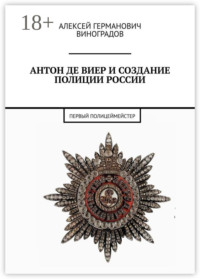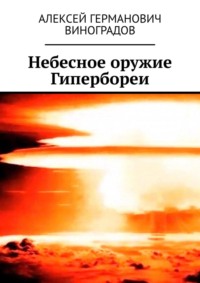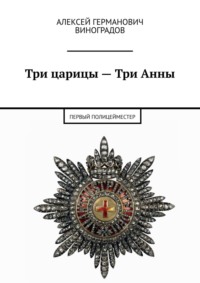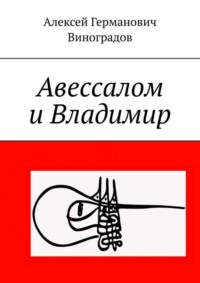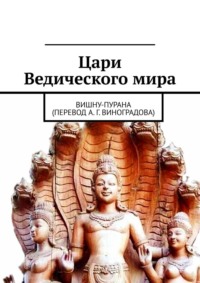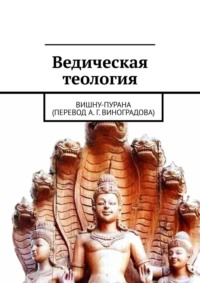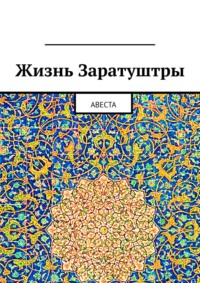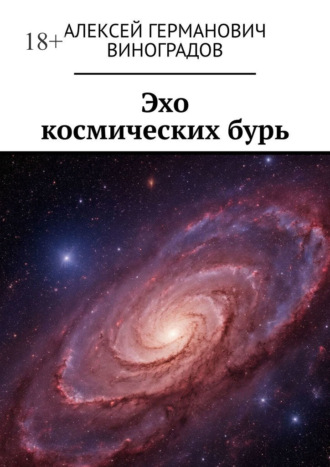
Полная версия
Эхо космических бурь
В Сибири было обнаружено захороненное в вечной мерзлоте множество животных, большая часть которых была типична для районов умеренного климата. Здесь трупы животных находились среди вырванных с корнем стволов деревьев и другой растительности и носили на себе признаки гибели от неожиданной и внезапной катастрофы. Мамонты погибли внезапно, и в больших количествах, при сильном морозе. Смерть наступила так быстро, что они не успели переварить проглоченную пищу.
Новосибирские и другие острова буквально напрессованы огромным количеством останков мамонтов, слонов, носорогов – животных, требующих большого количества растительной пищи ежедневно в течение всего года. Громадное количество бивней мамонтов находится на дне Северного ледовитого океана между островами. Эти места были материком, когда здесь жили мамонты.
В желудке и между зубами замерзших мамонтов были найдены растения, не растущие ныне в северной Сибири.
На Новосибирских островах обнаружены внезапно поваленные огромные леса, высокие холмы, состоящие из сломанных деревьев, причём, сохранились следы листьев и плодов. Уничтоженные леса были унесены из северной Сибири в океан и вместе с костьми животных и наносами песка построили острова.
Если предположить, что цивилизованные люди могли наблюдать Катастрофу, то они могли оставить какие-то сведения о ней. Эти сведения могли дойти до нашего времени. Но учитывая общую обстановку, опубликовать их – означало погубить свою репутацию и карьеру в научном мире.
По этой причине не только в России 19 века, но и в Европе был распространен жанр написания политических, литературных или научных текстов от имени античных, литературных персонажей или под псевдонимом.
Такое произведение с реалистичным описанием Катастрофы, в которм указаны такие детали, как проживание негроидов в Приполярье, выпадение золотого песка, смена состава и давления атмосферы вышло под названием «Ученое путешествие на Медвежий остров (Фантастические путешествия барона Брамбеуса III. По теории Барона Кювье)».
Автор реалистического описания катастрофы – статский советник Сенковский Иосиф-Юлиан (1800—58), Заслуженный профессор, Член Петербургского Вольного Общества Любителей Словесности, Действительный член Общества Любителей Наук в Варшаве, Почетный доктор философии Краковского университета, Член Ученого Общества при Краковском университете, Член Азиатского Общества в Лондоне, Член-корреспондент Императорской Академии наук, Член Общества Северных Антиквариев в Копенгагене.
Иосиф-Юлиан Сенковский происходил из знатной польской, лютеранской семьи. В Виленском университете окончил физико-математический, филологический, нравственно-политический факультеты. Совершил путешествие по Турции, Сирии и Египту (1819—1821).
Помимо основных европейских языков, знал турецкий и арабский, персидский, новогреческий, итальянский и сербский языки. Впоследствии овладел китайским, монгольским и тибетским языками. С 1821 года служил переводчиком в Иностранной коллегии. В 1822—47 годах профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре арабской и турецкой словесности.
Он стал фактическим основателем школы русской ориенталистики. Сенковский утверждал, что до 12 века «грузин вообще не было на свете».
В 1828—33 годах исполнял обязанности цензора, был фактическим автором Цензурного устава 1828 года.
Помимо ориенталистики, занимался изучением скандинавских саг и русской истории, акустикой, теорией и историей музыки, изобретениями музыкальных инструментов, написал множество статей по этнографии, физике, математике, геологии, медицине.
Первый опыт исторического исследования на французском языке «Приложение к общей истории гуннов, турков и монголов» (1824 год).
Первым опытом в русской литературе стал цикл «Восточных повестей», которые наполовину являлись переводами с восточных языков. В 1833 в альманахе крупнейшего санкт-петербургского книгоиздателя и книготорговца А. Ф. Смирдина «Новоселье» опубликовал за подписью Барон Брамбеус «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», имевшие ошеломительный успех.
В 1834—1847 годах редактор ежемесячного «журнала словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, составляемый из литературных и ученых трудов…» «Библиотека для чтения», в котором публиковал свои многочисленные статьи на разнообразные темы, преимущественно истории и литературы, также нравоучительные развлекательные повести и рассказы. Восточные, светские, бытовые, сатирические повести, публиковавшиеся под псевдонимом «Барон Брамбеус», сделали его особенно популярным.
Смирдин платил Сенковскому необычно большое для того времени жалованье в 15 000 рублей в год. Тираж журнала возрос «непомерно» до 5 тысячи подписчиков в год, что приносило Смирдину огромные прибыли. Это был первый в России журнал энциклопедического характера, охватывавший все стороны жизни мало-мальски образованного русского человека.
Согласно источнику, текст сохранился в горной пещере на Медвежьем острове в архипелаги Новой Сибири.
Общая площадь Новосибирских островов составляет 38 тысяч квадратных километров. Архипелаг состоит из трёх групп островов: Ляховских островов на юге, островов Анжу в центре и островов Де-Лонга на северо-востоке. Берега изрезаны крупными заливами и губами, много мысов. Развит рельеф аккумулятивных и эрозионно-денудационных равнин с разнообразными мерзлотными формами. Наивысшие точки: гора Де-Лонга, 426 метров (остров Беннетта), гора Малакатын-Тас, 361 метров (остров Котельный) и гора Эмий-Тас, 293 метров (остров Большой Ляховский). Наивысшая точка острова Новая Сибирь 62 метра.
Остров Медвежий с горой высотой в 680 метров соответствует острову Беннета с горой Де-Лонга высотой 426 метров и вулканизмом. Хотя остров указанный в тексте примыкает к Новой Сибири. Раскопки на нем не проводились.
Есть Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море состоящий из островов: Крестовский, Леонтьева, Четырёхстолбовой, Пушкарёва, Лысова и Андреева. Общая площадь архипелага составляет около 60 квадратных километра. Для островов архипелага характерны скалистые берега, реже встречаются заболоченные низменные. Местами к ним регулярно прибивает выкидные леса. На острове Четырёхстолбовой имеется гора. На Крестовском острове расположены гора Шапка (273 метра) и к западу от неё, гора высотой 186 метров. В геологическом строении островов участвуют гранитные и гранит-порфировые породы. Преобладают глинистые и гранитные сланцы. В некоторых местах залегают подземные льды.
Иосиф-Юлиан Сенковский приводит дату Катастрофы. «Комета, упавшая на землю со своим ядром и атмосферою в 11879 году, в 17-й день пятой луны, в пятом часу пополудни». Но какая это дата, 11879 год до нашей эры, 10051 год до нашей эры или 838 год, не ясно.
«14 апреля (1828) отправились мы из Иркутска в дальнейший путь, по направлению к северо-востоку, и в первых числах июня прибыли к Берендинской станции, проехав верхом с лишним тысячу верст…
По мере приближения нашего к берегам Лены вид страны становился более и более занимательным. Кто не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслию великолепие и разнообразие картин, которые здесь, на всяком почти шагу, прельщают взоры путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Всё, что Вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: съеженные хребты гор, веселые бархатные луга, мрачные пропасти, роскошные долины, грозные утесы, озера с блещущею поверхностью, усеянною красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады – все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством…
Но Шпурцманн, как личный приятель природы, получающий от короля ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была принуждена к тому внешнею силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые края, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты, в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и берёза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркою полосою, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по её поверхности или вместе с деревьями и плодами теплых стран света погребенные в верхних слоях тучной её почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб или винную ягоду, превращенные в камень, которые продал ему один якут близ берегов Алдана…
прибыли мы на Берендинскую станцию, где светлая Лена, царица сибирских рек, явилась взорам нашим во всем своем величии… принял на себя приискать для нас барку, и 6-го июня пустились мы в путь по течению Лены. Берега этой прекрасной, благородной реки, одной из огромнейших и безопаснейших в мире, обставлены великолепными утёсами и убраны беспрерывною цепью богатых и прелестных видов. Во многих местах утёсы возвышаются отвесно и представляют взорам обманчивое подобие разрушенных башен, замков, храмов, чертогов…
Предаваясь влечению утешительной мечты, я видел в Лене древний сибирский Нил и в храмообразных её утёсах развалины предпотопной роскоши и образованности народов, населявших его берега…
Но кстати о Ниле. Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампольона Младшего, прославившегося открытием ключа к иероглифам… Правда, что господин Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону;
…изобретенная же господином Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь и дела…
Наконец увидели мы перед собою обширные луга, расстилающиеся на правом берегу Лены, на которых построен Якутск. Июня 10-го прибыли мы в этот небольшой, но весьма красивый город, изящным вкусом многих деревянных строений напоминающий царскосельские улицы… Иван Антонович Страбинских отправлялся к устью Лены, имев поручение от начальства обозреть его в отношениях минералогическом и горного промысла… и вызвался сопутствовать ему под 70-й градус северной широты, где ещё надеялся он найти средство проникнуть и далее, до Фадеевского Острова и даже до Костяного пролива.
…счастье побывать за 70-м градусом широты, в Новой Сибири и Костяном проливе, где найдем пропасть прекрасных костей разных предпотопных животных…
Время было ясное и жаркое. Лена и ее берега долго еще не переставали восхищать нас своею красотою: это настоящая панорама, составленная со вкусом из отличнейших видов вселенной. По мере удаления от Якутска деревья становятся реже и мельче; но за этот недостаток глаза с избытком вознаграждаются постепенно возрастающим величием безжизненной природы. Под 68-м градусом широты река уже уподобляется бесконечно длинному озеру, и смежные горы принимают грозную альпийскую наружность.
Наконец вступили мы в пустынное царство Севера. Зелени почти не видно. Гранит, вода и небо занимают всё пространство. Природа кажется разоренною, взрытою, разграбленною недавно удалившимся врагом её. Это поле сражения между планетою и её атмосферою, в вечной борьбе которых лето составляет только мгновенное перемирие. В непрозрачном тусклом воздухе над полюсом висят растворенные зима и бури, ожидая только удаления солнца, чтоб во мраке, с новым ожесточением, броситься на планету; и планета, скинув свое красивое растительное платье, нагою грудью сбирается встретить неистовые стихии, свирепость которых как будто хочет она устрашить видом острых, чёрных, исполинских членов и железных ребр своих.
2 июля бросили мы якорь в небольшой бухте, у самого устья Лены, ширина которого простирается на несколько верст. Итак, мы находились в устье этой могущественной реки, под 70-м градусом широты. Но ожидания наши были несколько обмануты: вместо пышного, необыкновенного вида мы здесь ничего не видали. Река и море, в своем соединении, представили нам одно плоское, синее, необозримое пространство вод, при котором великолепие берегов совершенно исчезло.
Доктор остановил мое внимание на особенном устройстве этого устья, которое кажется будто усеченным. Берега здесь не ниже тех, какие видели мы за сто и за двести верст вверх по реке. Из обоих же углов устья выходит длинная аллея утесистых островов, конец которой теряется из виду на отдаленных водах океана. Нельзя сомневаться, что это продолжение берегов Лены, которая в глубокую древность долженствовала тянуться несравненно далее на север. Но один из тех великих переворотов в природе, о которых мы с доктором беспрестанно толковали, по-видимому, сократил её течение, передав значительную часть русла её во владение моря…
После трехдневного плавания завидели мы вправо низкий остров, именуемый Малым. Влево высокие утесы, образующие южный край Фадеевского Острова. Скоро проявились и нагруженные ледяными горами неприступные берега Новой Сибири, за юго-западным углом которой приказчик судна указал нам высокую пирамидальную массу камня со многими уступами. Это был Медвежий Остров.
Мы прибыли туда 8 июля, около полудня, и немедленно отправились на берег. Медвежий Остров состоит из одной, почти круглой, гранитной горы, окруженной водою, и от Новой Сибири отделяется только небольшим проливом. Вершина его господствует над всеми высотами близлежащих островов, возвышаясь над поверхностью моря на 2260 футов…
Это только новое доказательство, что так называемые египетские иероглифы не суть египетские, а были переданы жрецам того края гораздо древнейшим народом, без сомнения, людьми, уцелевшими от последнего потопа. Итак, иероглифы суть, очевидно, письмена предпотопные, literae antediluvianae, первобытная грамота рода человеческого, и были в общем употреблении у народов, обитавших в теплой и прекрасной стране, теперь частию превращенной в Северную Сибирь, частию поглощенной Ледовитым морем, как это достаточно доказывается и самым устройством устья Лены. Вот почему мы находим египетскую надпись на Медвежьем Острову…
«…Никто уже из них не увидит ни отечеств, ни величия, ни пышности их злосчастных предков. Наши прекрасные родины, наши чертоги, памятники и сказания покоятся на дне морском, или под спудом новых огромных гор. Здесь, где теперь простирается это бурное море, покрытое льдинами, ещё недавно процветало сильное и богатое государство, блистали яркие крыши бесчисленных городов, среди зелени пальмовых рощ и бамбуковых плантаций двигались шумные толпы народа и паслись стада под светлым и благотворным небом.
Этот воздух, испещренный гадкими хлопьями снега, замешанный мрачным и тяжелым туманом, ещё недавно был напитан благоуханием цветов и звучал пением прелестных птичек, вместо которого слышны только унылое каркание ворон и пронзительный крик бакланов.
В том месте, где сегодня, на бушующих волнах, носится эта отдаленная, высокая ледяная гора, беспрестанно увеличиваясь новыми глыбами снега и окаменелой воды, – в том самом месте, в нескольких переездах отсюда, пять недель тому назад возвышался наш великолепный Хухурун, столица могущественной Барабии и краса вселенной, огромностью, роскошью и блеском превосходивший все города, как мамонт превосходит всех животных. И все это исчезло, как сон, как привидение!..
В 10-й день второй луны сего, 11789 года в северовосточной стороне неба появилась небольшая комета…
Барабия была тогда в войне с двумя сильными державами: к юго-западу (около Шпицбергена и Новой Земли) мы вели кровопролитную войну с Мурзуджаном, повелителем обширного государства, населенного неграми, а на внутреннем море (что ныне Киргизская Степь) наш флот сражался со славою против соединенных сил Пшармахии и Гарры. Наш царь, Мархусахааб, лично предводительствовал войсками против чёрного властелина, и прибывший накануне гонец привез радостное известие об одержанной нами незабвенной победе… настоящую цель нашего похода против негров Шах-шух (Новой Земли)…
С досады я стал считать звёзды на небе и увидел, что комета… с тех пор необыкновенно увеличилась в своем объеме. Голова её уже не уступала величиною Луне, а хвост бледно-жёлтого цвета, разбитый на две полосы, закрывал собою огромную часть небесного свода… Я сделал наблюдения над хвостом кометы… Знаете ли вы его величину?…
Она простирается на 45 миллионов миль: это более чем дважды расстояние Земли от Солнца… эта комета совсем переменила свой вид. Прежде она казалась маленькою, бледно-голубого цвета; теперь, по мере приближения к Солнцу, со дня на день представляется значительнее и сделалась желтою с темными пятнами. Я измерил ее ядро и атмосферу: первое, по-видимому, довольно плотное, имеет в поперечнике только 189 миль; но её атмосфера простирается на 7000 миль и образует из неё тело втрое больше Земли. Она движется очень быстро, пролетая в час с лишком 50 000 миль. Судя по этому и по ее направлению, недели через три она будет находиться только в 200 000 милях от Земли.
– Что царский астроном, Бурубух,… утверждает, что эта комета, хотя и подойдет довольно близко к Земле, но не причинит ей никакого вреда. Что, вступив в круг действия притягательной её силы, если её хорошенько попросят, она может сделаться её спутником, и мы будем иметь две луны вместо одной: не то она пролетит мимо и опять исчезнет. Что, наконец, нет причины опасаться столкновения её с земным шаром, ни того, чтоб она разбила его вдребезги, как старый горшок, потому что она жидка, как кисель, состоит из грязи и паров, и прочая, и прочая… было время, когда кометы валились на землю, как гнилые яблоки с яблони?
…И доказательство тому, что кометы не раз падали на землю, имеете вы в этих высоких хребтах гор, грозно торчащих на шару нашей планеты и загромождающих её поверхность. Все это обрушившиеся кометы, тела, прилипшие к Земле, помятые и переломленные в своем падении. Довольно взглянуть на устройство каменных гор, на беспорядок их слоев, чтоб убедиться в этой истине.
Наши взоры устремились на комету… но в тот вечер она ужаснула и нас. С вчерашней ночи величина её почти утроилась. Её наружность заключала в себе что-то зловещее, невольно заставлявшее трепетать. Мы увидели огромный, непрозрачный, сжатый с обеих сторон шар, темно-серебристого цвета, уподоблявшийся круглому озеру посреди небесного свода. Этот яйцеобразный шар составлял как бы ядро кометы и во многих местах был покрыт большими черными и серыми пятнами. Края его, очерченные весьма слабо, исчезали в туманной, грязной оболочке, просветлявшейся по мере удаления от плотной массы шара и наконец сливавшейся с чистою, прозрачною атмосферою кометы, озаренною прекрасным багровым светом и простиравшеюся вокруг ядра на весьма значительное расстояние: сквозь неё видно даже было мерцание звёзд. Но и в этой прозрачной атмосфере, составленной, по-видимому, из воздухообразной жидкости, мелькали в разных местах темные пятна, похожие на облака и, вероятно, происходившие от сгущения газов. Хвост светила представлял вид ещё грознейший: он уже не находился, как прежде, на стороне его, обращенной к востоку, но, очевидно, направлен был к Земле, и мы, казалось, смотрели на комету в конец её хвоста, как в трубу. Ибо ядро и багровая атмосфера помещались в его центре, и лучи его, подобно солнечным, осеняли их со всех сторон. За всем тем можно было приметить, что он ещё висит косвенно к Земле: восточные его лучи были гораздо длиннее западных. Эта часть хвоста, как более обращенная к недавно закатившемуся Солнцу, пылала тоже багровым цветом, похожим на цвет крови, который постепенно бледнел на северных и южных лучах круга и в восточной его части переходил в жёлтый цвет, с зелеными и белыми полосами. Таким образом, комета с своим кругообразным хвостом занимала большую половину неба и, так сказать, всею массою своею тяготила на воздух нашей планеты. Светозарная материя, образующая хвост, казалась ещё тоньше и прозрачнее самой атмосферы кометы: тысячи звёзд, заслоненных этим разноцветным, круглым опахалом, просвечиваясь сквозь его стены, не только не теряли своего блеску, но ещё горели сильнее и ярче; даже наша бледная луна, вступив в круг его лучей, внезапно озарилась новым, прекрасным светом, довольно похожим на сияние зеркальной лампы.
Несмотря на страх и беспокойство, невольно овладевшие нами, мы не могли не восхищаться величественным зрелищем огромного небесного тела, повисшего почти над нашими головами и оправленного ещё огромнейшим колесом багровых, розовых, желтых и зеленых лучей, распущенным вокруг него в виде пышного павлиньего хвоста, по которому бесчисленные звёзды рдели, подобно обставленным разноцветными стеклами лампадам.
…Она теперь находится в расстоянии только 160 000 миль от Земли, которая уже плавает в её хвосте. Завтра в седьмом часу утра последует у нас от неё полное затмение Солнца… Вы теперь сами изволите видеть, как ядро её темно, непрозрачно, тяжело: оно, очевидно, сделано из огромной массы гранита и только погружено в легкой прозрачной атмосфере, образуемой вокруг её парами и газами, наподобие нашего воздуха…
Круг её опустошений будет ограничен. Ядро этой кометы… в большем своем поперечнике простирается только на 189 миль. Итак, она своими развалинами едва может засыпать три или четыре области – положим, три или четыре царства…
…Комета уподоблялась большой круглой туче и занимала всю восточную страну неба: она потеряла свою богатую, светлую оболочку и была бурого цвету, который всякую минуту темнел более и более. Солнце, недавно возникшее из-за небосклона, уже скрывало западный свой берег за краем этого исполинского шара…
Спустя четверть часа Солнце совершенно скрылось за ядром кометы, которая явилась нашим взорам чёрною, как смоль, и в таком близком расстоянии от Земли, что можно было видеть на ней ямы, возвышения и другие неровности. В воздухе распространился почти ночной мрак, и мы ощутили приметный холод.
Затмение продолжалось до второго часу пополудни. Около того времени небо несколько просветлело, и узкий край Солнца мелькнул из-за обращенного к западу края кометы… Скоро Солнце засияло полным своим блеском. Но в его отсутствие окружность кометы удивительно расширилась. С одной стороны значительная часть грязного и шероховатого её диска погружалась за восточною чертою горизонта, тогда как противоположный берег упирался в верх небесного свода. Такое увеличение ее наружности, при видимом удалении её от наших глаз к востоку, ясно доказывало, что она летит к Земле косвенно. В пятом часу пополудни она совсем закатилась…
Солнце уже клонилось к закату… Подземный гром с оглушительным треском и воем беспрерывно катился под самою почвою, которая с непостижимою упругостью то раздувалась и поднималась вверх, то вдруг опадала, образуя страшные углубления, подобно волнам океана. В то же самое время поверхность её качалась с севера на юг, и вслед за тем черта движения переменялась, и возникало перекрестное качание с востока на запад или обратно. Потом казалось, будто почва кружится под нами: мы, верблюды и лошади падали на землю, как опьяневшие; одни мамонты и мастодонты, расставив широко толстые свои ноги и вертя хоботами для сохранения равновесия, удерживались от падения.
Уже наступала ночь. Землетрясение не уменьшалось… Несмотря на внутренние терзания планеты, которая при всяком ударе должна бы, казалось, разбиться в мелкие куски, над её поверхностью царствовала ночь, столь же прекрасная, светлая и тихая, как и вчерашняя… Небо пылало звёздами. Но, к удивлению, не было видно кометы… подземные удары становились гораздо слабее и реже. Гром, бушевавший в недрах шара, превратился в глухой гул, который иногда умолкал совершенно…
Наконец настал день. Мы почти не узнали вчерашних развалин… город представлял вид обширной насыпи обломков. Величественная Лена… оставила свое русло и, поворотясь к западу, проложила себе новый путь по опрокинутым башням, по разостланным на земле стенам прежних дворцов и храмов… Землетрясение едва было ощутительно, однако не прекращалось, и от времени до времени более или менее сильный удар грозил, казалось, возобновлением вчерашних ужасов.
Мы уже выехали из города, уже поднимались на высоты… Почва, по которой мы проезжали, была истрескана в странные узоры, и на пути нередко попадались широкие трещины, через которые следовало перескакивать. Холмы были разрушены: одни осыпались и изгладились. Другие лежали разбитые на несколько частей. В иных местах разверзтая планета изрыгнула из своего лона кучи огромных утесов. Прежние озера иссякли, и вместо их появились другие. Но самый примечательный признак опустошения являли деревья: леса были всклочены. В роще и на поле не оставалось и двух дерев в перпендикулярном положении к земле: всё стояли вкось, под различными углами наклонения и всякое в свою сторону. Многие дубы, теки, сикоморы и платаны были скручены, как липовые веточки, а некоторые расколоты так, что человек удобно мог бы пройти в них сквозь пень, как в двери. …Не одна Лена переменила свое направление: все вообще реки и потоки оставили свои русла и, встретив преграды на вновь избранном пути, начали наводнять равнины. Вода… поминутно поглощала большее и большее пространство. Некоторые утверждали, что она вытекает из-под земли, и здесь в первый раз произнесено было между нами ужасное слово – Потоп! Всё были того мнения, что надобно уходить в Сасахаарские горы…