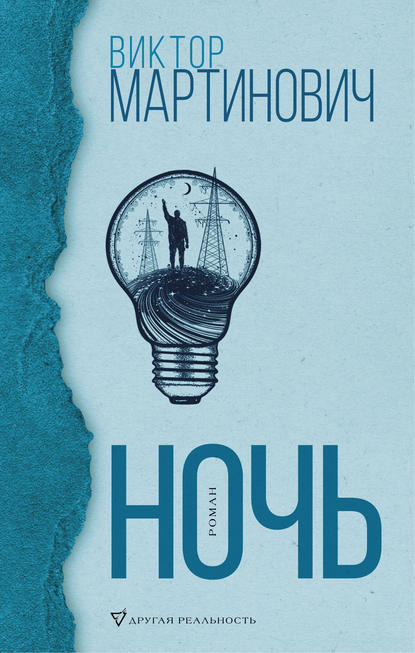Полная версия
Золотое время
– Что это, Варна?
– Где?
– В небе!
– Нет ничего.
– Но гул!
– Какой гул, Волла? Ничего я не слышу.
Тут солнце от меня отступилось, глаза к свету привыкли, и я увидела – снег белый, небо голубое. Дети играют. Рыжая собака лает на дороге. Торопливая женщина к соседке спешит. И в небе пусто. Только облака. И гула никакого.
Это в первый раз тогда со мной было, что глаза подвели, а уши – нет.
В тот день и ушел к Камлакам Варна.
Мамонты
Гул достигает максимума и резко обрывается, как всегда, когда самолет переходит границу скорости. Сразу становится тихо, как будто все в природе придавленно оглядывается, пропала ли опасность, повезло ли на этот раз.
Повезло.
Хотя самолеты летают здесь часто, пора бы природе и привыкнуть – город далеко, а вот летно-испытательный комплекс от авиазавода поближе, и маршруты самолетов проходят здесь – глушь, тайга, случись чего, не на город же им пикировать. Ильдар про это знает, недаром пытался поступать в авиационный. Два раза. И оба пролетел, как этот самый самолет.
Поднимает голову, всматривается в небо. Но след уже не виден. Или слишком темно – ранние октябрьские сумерки, глаза будто слепнут. Самое неприятное время. Передергивает плечами – в легкой куртёнке зябко. То ли еще будет. Не думал ведь, что застрянет тут до холодов, ничего с собой не взял. А ведь конца-края их сидению не видно.
Ладно, шут с ним. Прорвемся.
Оборачивается на могилу. Памятник на холме, открытое, голое место, даже оградки нет. Не ушла, там еще. Сидит спокойно, как за чаепитием. За чаепитием и есть: перед памятником чашечка, она как приходит, наливает из термоса чай. Конфеты кладет. Сидит, сама пьет из крышки термоса. Цветы там всегда свежие, свечка в банке. Уютно даже. Подумал: нравится ли ему такое? Самому бы хотелось так? В смысле, чтобы к нему ходили, когда под памятником будет лежать.
Тьфу, вот о чем точно думать не надо!
Рябина, под которой он стоит, зашелестела – из-под холма, с реки, тянет ветром, продирает под тонкой кожанкой. Ильдар снова ежится. Смотрит на часы: без пятнадцати пять. Полчаса прошло, скоро домой пойдет. Он никогда ее не торопит. Глупо торопить: она как ходила без него, так и с ним ходит, ей вообще по барабану, есть он тут или нет, будет ждать или нет. Это ему нужно, а не ей. Он себя не обманывает. Иногда хочется, чтобы было не так, пытается подмечать: вдруг хоть потеплее посмотрит? Нет, он для нее ничто, пустое место. Хочет ходить сюда – пусть ходит. Нет – она не расстроится. Пока идут с кладбища до ее дома, всегда молчат. Он напряженно пытается придумать тему для разговора, а ей, кажется, и не нужно. Ей вообще ничего не нужно. Для чего же ему тогда она?
Дурак ты, Рыжий, сказал недавно Серый. Она же ребенок еще. Она на тебя как на парня и не смотрит. А ты к ней привязался как банный лист. Вот он сказал – и Ильдару самому стало понятно, чего это он к ней привязался. И жарко стало от этого понимания. Он не думал о таком – ну, ходит за ней и ходит, нравится смотреть на нее. А зачем и для чего – не думал. Серый сказал – начал понимать. И что с этим теперь делать? Тринадцать лет – правда же ребенок. Хотя сам себя в тринадцать Ильдар уже ребенком не считал. Ну так то он. А она – девочка.
Дурак ты рыжий, повторяет он про себя и начинает прыгать на месте. Руки окоченели, ладони раскраснелись и опухли. Сует их под мышки, нахохливается, как ворона. Закрывает глаза, легко вызывает во внутренней темноте ее образ – черные волосы, тонкие брови, тонкие губы, узкие, чуть раскосые глаза, вообще все черты узкие, как будто вырезаны самым тонким, острым резцом по темному, смуглому дереву. Взгляд внимательный и надменный. Или так кажется – у азиатов всегда непонятный взгляд. А она азиатка? Не ясно, Ильдар до сих пор не определил. Так посмотришь – вроде да. А иначе – как будто и нет. Помесь, серединка на половинку: папа русский, видел он этого папу.
Под ложечкой потянуло. Ильдар прыгает и тихонько скулит. Но не уйти же без нее. И правда, таскается за ней, как собака. Местные уже косятся. Хотя сами ее боятся. Может, конечно, это он выдумал, но несколько раз замечал: и девчонки, ее одноклассницы, и парни – сторонятся. Она всегда одна. Взрослые на улице здороваются сквозь губу. И видно – не презирают, а именно боятся. Ильдар знает этот взгляд – показательно вежливый, а внутри – страх. Так его собственная бабушка смотрела на тетю Алию – про ту в деревне поговаривали, что она умеетоборачиваться, ходит по чужим дворам, ворует цыплят, и вообще добра от нее не жди. Ильдар мелкий был, они вместе с пацанами вечерами бегали подглядывать – вдруг и правда тетя Алия прыгнет через три ножа и обернется черным поросенком? Бабушка жутким шепотом говорила, мешая русские и татарские слова, что, если такой поросенок к тебе подбежит, нужно его по уху ножом хватануть. Тогда на следующий день тетка Алия придет с обрезанным ухом, и все в деревне узнают, что она оборотень. Больше не станет хулиганить.
Но почему, за какие такие грехи боятся здесь ее – хрупкую, тихую, – он не понимал. Неужели из-за этих вот вечерних походов на кладбище? Все про это знают, деревня – ничего не скроешь. Другого странного он в ней не замечал. Ну и пусть, ему только на руку. Никто не начнет права качать, все-таки он приезжий, и вдруг такое нахальство. Ильдар, сам деревенский, знал, что такого не любят: у них пацаны не потерпели бы, если бы кто-то таскался заих девчонкой. А тут всем фиолетово.
О, встала. С холма идет. Не к нему – по другой тропинке. Она то так, то этак ходит, знает каждый куст. А ему – угадывай, куда свернет, да догоняй. Ильдар снимается с места, быстрым шагом, лавируя между оградками и памятниками, идет следом. Темно уже, как бы ноги не переломать. Она идет быстро, не обернется – ей до него дела нет. И ничего не боится. Ни его, ни мертвяков. Вообще смелая. Обычно он догоняет ее уже на выходе, возле часовни, и потом просто идет рядом. Провожает до крыльца. За удачу считает, если она хоть раз на него посмотрит. Почему-то ему кажется, хочется верить, что, если он будет вот так каждый день с ней ходить, она наконец привыкнет. Как природа к самолетам. Не может не привыкнуть.
Что-то шуршит слева – и его хватают за руку. Ильдар не успевает испугаться.
– О, Рыжий! Сам нарисовался. А я за тобой.
Серый. Выходит из кустов.
– Телочку свою пасешь. – Осклабился – сквозь сумерки виден щербатый рот. – Ну-ну.
У него глухой, как будто всегда осипший голос. Серый высокий, но рыхлый, и Ильдару не нравится, как он смотрит вслед уходящей Насте.
– Идем, дело есть, – кивает Серый потом, дождавшись, когда она скроется из вида, и идет по тропинке в обратную сторону, к реке. Не оглядывается и не зовет его – уверен, что пойдет, деваться ему некуда.
Ильдар смотрит вниз – Настя уже в желтом круге света фонаря у крошечной часовни. Еще шаг – и канет в густой октябрьской тьме.
А он послушно, как скотина, поворачивает и идет за Серым, хотя все в нем тянется вниз с холма – за ней. Как будто раздваивается, и пока ноги несут вверх, мысленно он проходит за ней след в след, обходит часовню, выходит на дорогу и идет дальше – по центральной улице, мимо школы, мимо старого магазина и их стройки – к ее дому: большой, за забором, как и все дома здесь за глухими заборами. Собаки брешут в неуютный вечер. Редкие фонари – у школы да на повороте к магазину. Остальное тонет в блестящей, влажной и ветреной темноте. Школа единственная не за забором, но она далеко от дороги, перед ней большой пустырь, залитый светом одинокого фонаря. Напротив – их почти заброшенная стройка, недостроенные стены врезаются в ночь, как обглоданный остов животного. Ни души на улице, но Настя не боится. Ничего она не боится, только магазин всегда обходит подальше, по другой стороне улицы. Старый, приземистый, он белеет боком, темнеет выщербленной штукатуркой, зияет разбитым окном – вместо стекла вставлен кусок фанеры. Ильдар знает, что Настя никогда не ходит сюда. Почему – он не понимает и не у кого спросить.
– Быстро ты обернулся.
Высокий голос Валерика вырывает его из мыслей. Тот курит, поджидая их среди могил на холме.
– Да он тут был, далеко ходить не пришлось.
– А, бабу свою обхаживает! – тоже догадывается Валерик и начинает ржать. Смех у него гаденький, похабный. Всё-то они знают. – Так и не подступился? Ты ее к нам приводи, научим, чё делать. Да, Серёг?
Тот ухмыляется. Ильдара трясет.
– И скажи ей, кстати, что ночью жальник – не то место для девки. Мало ли кто привяжется. Упыри какие-нибудь, – продолжает ржать Валерик.
– По нашим временам людей бояться больше надо, чем упырей, – говорит Серый. Он тоже курит. Красная точка вспыхивает ярче возле лица.
– Ага, люди – те еще упыри, – шутит Валерик и ржет, и кашляет. Потом, прокашлявшись, спрашивает непонятно у кого: – Она-то знаешь, куда ходит? Вот сюда.
Щелкает фонариком, и луч выхватывает плиту возле его ног. Свечка в баночке почти догорела, фитиль еле пляшет, когда ветер задувает внутрь. На гладком камне – фотография в рамочке: те же тонкие скулы, узкие глаза, черные волосы. Но лицо пошире. И взгляд – без надменности, но еще более непонятный, странный совсем взгляд. Такие всегда бывают у мертвых на могильных фотках, как будто они смотрятоттуда
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Хорей – шест для управления оленями в упряжке или при езде верхом. (Примеч. авт.)