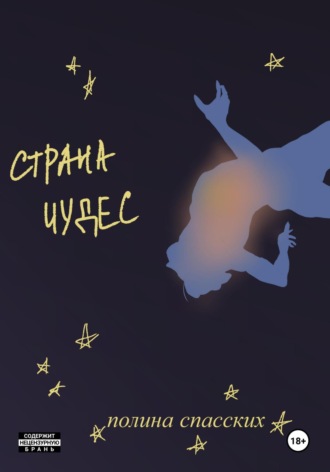
Полная версия
Страна Чудес: Туголес

полина спасских
Страна Чудес: Туголес
Кирилл: Зима
Зима опустилась на город в ночной тишине. Это случилось незаметно – люди засыпали под размеренный шум дождя, а проснулись в русской сказке. Все вокруг обернулось белым одеялом, январь вступил в своё правление, поблескивая в утреннем солнце и забираясь во все квартиры шальным ветерком из раскрытых форточек. Декабрь в Москве казался негласным продолжением осени, лающий опустившимися морозами, но не кусающий сугробами и метелью, бьющей по стеклам.
Кирилл никогда зиму не любил. Она холодная, словно мертвец, однотонная и депрессивная. Под слоем снега привычная грязь дворов раскисала, чавкающей жижей прилипая к подошве и штанинам – словно рука-зомби, вырвавшаяся из-под земли, цеплялась за ноги и не хотела отпускать, оставляя свои заражающие следы.
В подъезде собралась чернеющая лужа слякоти, которую приходилось перепрыгивать – весенние кеды Кирилла видели уже достаточно, готовые вот-вот развалиться. Его невероятно тянуло наверх: с самого десятого этажа нестерпимо тянуло смертью. Её запах вываливался из квартиры, тянулся по лестнице, легким туманом растянулся по всему дому, пытаясь выбраться дальше. Дай волю – весь район пропахнет той самой пугающей, неизбежной.
Кирилл знал, что что-то идёт не так с самого утра. Бабушка не отвечала на звонки, дед не писал привычное «зайдёшь?», а по груди волной прошлась тяжёлая булава тревоги. Зачем? Зачем он согласился остаться у матери, чувствуя подвох? Почему не послушал внутренний голос, воющий, чтобы остался?
Дверь поддаётся с привычной лёгкостью – бабуля никогда не запирала замки, если Кирилла ещё не было дома, не смотря на все опасения.
– Чтобы знал, внучок, – говорила тихо, наливая чай. – Наша дверь для тебя всегда открыта, мы всегда тебе рады.
– Явился, – голос деда разбитым стеклом хлестнул по груди.
Первое, что видит Кирилл – завешанные зеркала. Старые простыни, застиранные уставшими руками, порванные от постоянного ерзанья, пахнущие самым родным – домом – неровно свисали на шкафах, напоминая кривую ухмылку. Это она, та самая, пугающая, неизбежная, смеется. Кривит ненасытный рот словно услышала неплохой анекдот там, где все читают горькие молитвы.
– Что с ней? – Кирилл не узнаёт себя, не слышит свой собственный голос, словно оказался где-то далеко-далеко, где не достанет ни одна усмешка.
– Не задавай глупых вопросов, сынок, – дед, шаркая тяжёлыми ногами, бредёт мимо. На его лице полная пустота, в глазах непроглядная тьма. Всё тепло, которое проникало в каждом звуке привычного обращения, обернулось кусающим морозом. Никакой он ему не сынок. Кирилл – никто. Недостойный первым знать о незваной гостье, гордо носившей имя Смерть, которая нагрянула средь бела дня.
Кириллу всего пятнадцать. Он – брошенный мальчик, потерявший дом, пахнущий свежим чаем и стиральным порошком, дом, который он ласково называл «бабуля». В ту ночь что-то очень важное внутри Кирилла надломилось, пустив первые трещины. Занудные взрослые, любящие умничать и поучать, называют это разбитым сердцем. В груди действительно нестерпимо болело, резало, кололо.
– Не переживай, – шептала мама в трубку, в жалкой попытке скрыть собственные всхлипы. Она никогда не звонила первая, не желала спокойной ночи, но холодная январская ночь, кажется, смогла заставить её оттаять к собственному ребёнку. – Засыпай, Кирюша, и ни о чём не переживай.
Все вокруг повторяли одно и тоже: не думай, не волнуйся, не переживай. Но никто не говорил, как это сделать. Как заставить собственный распухший мозг просто отключиться, перестать на повторе прокручивать каждое воспоминание? Это же, в конце концов, не фильм на кассете, который можно поставить на паузу, как только он надоел. Кирилл не мог не думать, не волноваться и не переживать. Он – сгусток нервных окончаний, пульсирующий адской болью.
«Поплачь, сынок, легче станет» – говорил дед. Он готовил завтрак, собирался на работу, общался с родственниками по телефону так, словно ничего не произошло. Словно из привычной каритнки не вынули самый нужный кусочек, без которого пазл рассыпается. Кирилл не мог понять: как это возможно? Неужели с возрастом внутри умирает что-то, что отвечает за все те чувства, что сидели в нём самом? Неужели взрослые – черствые сухари, не способные испытывать боли?
Кирилл очень хотел стать взрослым в тот момент. Просто чтобы не чувствовать пустоту. Чтобы не чувствовать ничего.
После похорон жизнь начала медленно гаснуть уже в глазах деда. Это было почти незаметно, словно ничего и не происходило вовсе. Кирилл был маленьким ребёнком, у которого в один момент вырвали из груди сердце, разорвали пополам и бросили обратно в руины его грудной клетки. Живи, мол, дальше, справляйся сам, как это делает каждый, ты уже взрослый. Когда ему было думать о том, что для деда их любимая бабуля и была тем самым сердцем. Не частичкой, не половинкой, а целиком и полностью, живым воплощением того, что заставляет жить.
А сколько человек может прожить без сердца?
Вот и дедушка ушёл почти сразу же, продержавшись тяжёлый и тёмный месяц, который не прожил – просуществовал подобием того человека, которым был до столкновения со смертью.
Так Кирилл и оказался в заточении тех, кого принято называть родителями. Люди, которые запрещали ему всё, перечёркивали все стремления и желания, позволяя делать только то, что входило в их понятие «правильно». И в пятнадцать лет мальчишка, потерявший самое дорогое, что у него было, окончательно забыл, что значит родительская любовь.
Единственный, кто мог позаботиться о мальчишке, – он сам. Максимум, что давала ему мать – комната, в которой он мог переночевать в промежутках между учёбой. Никаких карманных денег, никакой материнской ласки, даже капли внимания, как будто не она рыдала ему в трубку ночами, обещая, что приедет, заберет, будет рядом. Кирилл в эти сказки верил, когда ему было лет десять.
А в шестнадцать Кирилл постоянно бродил в поисках подработок, чтобы не получить очередную оплеуху от отца за собственную ничтожность.
– Взрослый же парень, – устало бормотал голос за стенкой. Кирилл побитой собакой прятался за дверью, вслушиваясь в шёпот родителей. – Нечего вздыхать, Наташ. Быстрее голова на место встанет.
В двадцать три Кирилл понял, что взрослым тоже больно. Никуда эти чувства не исчезают, их невозможно отключить, игнорировать, перестать испытывать. Просто с возрастом ты учишься не показывать, что внутри тебя целые руины тех замков, которые строились в детстве. Трещины разрастались, сквозили ядом, гноились и изнывали. С каждым годом – глубже, сильнее, масштабнее. В двадцать три года Кирилл понял – на нём живого места нет. Окуни в воду – дышать перестанет от зуда каждой царапины, перечеркнувшей все надежды и мечты кривой полосой
У Кирилла нет ничего. Нет дома, нет любимых и родных, нет цели. Он просто существует, скитаясь по заброшенным дворам родного района, погрязшего в тоске и разрухе. Самое место для такого, как он. Разбитый мечтатель, которому слишком рано обрезали крылья.
Максим: Весна
Макс до сих пор помнил тяжесть отцовских ладоней на своей шее. Помнил, как пытался ухватиться плывущим взглядом за темнеющую фигуру мужчины перед собой и набрать в лёгкие хотя бы каплю кислорода. Помнил, как улыбка не сползала с лица, как ноги отнимались – голова была такой лёгкой-лёгкой, но грудь сдавливали хрипы до горящей боли. Помнил, как одно единственное убей сорвалось с губ, смешиваясь с почти последним выдохом.
Отпустил. Испугался. Оставил живым – избитым и практически бездыханным, но живым. Сука.
– Максим, – хрипел отец ненавистное имя. Макс скалился на него, смотря исподлобья, словно дикий зверь. – Ты же сам знаешь, я не со зла. Ты со своими истериками сам доводишь до греха. Мне и без тебя забот хватает.
Ты виноват. Всё из-за тебя.
Каждый гребанный раз в него летят одни и те же слова, вместо избитого прости. Макс бы не простил, но его даже не просили. Никогда.
– Как мать твоя ушла к этому хмырю, ты мне на шею свалился, – звуки пропадают, Макс почти ничего не слышит из-за звона в ушах, но буквально на уровне инстинктов чувствует – щёлкнула и зашипела очередная банка пива. – Засранец, вставай уже. Не убил же я тебя.
К сожалению, думает Макс. Он уверен – отец подумал так же.
Для них это обыденный сценарий. Отец напивается, Макс попадается на глаза и каждый вечер, словно побитая собака, зализывает раны за закрытой дверью ванной. Но так было не всегда. Когда-то Максим нежился в объятиях любимой матери, сдувающей с него пылинки. Матери, которая кормила его вкусными блинчиками по утрам. Матери, которая выбросила Максима из своей жизни, словно неудавшийся черновик без возможности отредактировать.
Последнее хорошее воспоминание Макса связанные с матерью – плывущие в окне машины дома. Тогда из динамиков играл любимый мамин Виктор Цой, сменяемый изредка Земфирой, а запах дороги мешался в знакомом коктейле с сигаретным дымом и еле уловимым шлейфом духов. Солнечные лучи путались в волосах матери, которые она раз за разом откидывала с лица, пытаясь не отвлекаться от дороги. Пару раз она всё же не выдерживала и отвлекалась, заглядывала в зеркало заднего вида и улыбалась, поймав взгляд сына.
– Скоро приедем, Максимка, – подмигивала мама. – Тебя не укачивает? Может окно открыть?
– Открой.
Их машина останавливается около невысокого панельного дома в полной тишине. Цой замолкает вместе с мотором, оставляя после себя тяжелое напряжение, пока мама роняет нервный вздох и лихорадочно убирает пачку сигарет и ключи в сумочку.
– Выходи, сынок, мы на месте.
Та самая секунда, когда всё хорошее закончилось. Пропал запах сигарет с ментолом, духов и спокойствия. Последние мгновения приятных воспоминаний с залитой солнечной дороги сменяются на серую панельку, а в глазах гаснет огонёк. Внутри, глубоко в груди, рядом с сердцем, щёлкает маленький переключатель, и Максим начинает понимать, что что-то происходит. Мама не была такой нервной с момента, когда они с отцом развелись. Она была спокойной, ласковой, улыбчивой и нежной, но в этот самый день она выглядела потухшей.
Максим увидел его – в клетчатой рубашке и темно-синих джинсах, с сигаретой в руке и висящей ветровкой на локте. Отец всегда был для Макса воплощением тревоги и разочарования. В ту секунду, когда их взгляды пересеклись, Максим всё понял окончательно. Рюкзак, который он забрал с заднего сидения, обжог спину, мешая устоять на ногах – они тут же предательски подогнулись, не давая ступить ни шагу. Дверь машины позади хлопнула.
– Что, даже не зайдёшь? – отец обращается к его матери, и его голос возрождает что-то липкое и неприятное в душе Максима. Это чувство только усиливается, когда мужчина обращается к своему ребенку. – Хоть отца то обними, чего как не родной.
Не родной. Вот, что каждый раз орал отец, напиваясь и сталкиваясь с матерью на кухне. Не родной, нагуляла, пошла отсюда. Каждый раз одно и тоже – обжигало всё меньше, но выжженные на подкорке слова словно потухающие угли, на которые вновь начали дуть, обдавали жаром. Максим был совсем маленьким, когда они ругались, но детский разум похож на губку – впитал, запомнил, давал протечки, заставляя вспоминать.
Мать нашла в себе силы уйти, забрав Максима с собой. Она пыталась отгородить единственное важное, что было в её жизни, своего ребёнка, но не справлялась. Макс не мог её винить, но он действительно старался быть хорошим сыном. Как оказалось, этого было недостаточно.
Потому что мать снова ушла. В этот раз от Максима.
– Спать ложись, нечего в ванной сидеть, – сквозь дверь слышит Макс. Грубый голос пьяного отца проходится мурашками по коже, и Максим кивает, поздно понимая, что его не видят. – В школу завтра не опоздай.
– Не опоздаю, – Максим шепчет, пытаясь не заплакать. Он сильный мальчик.
Плитка в ванной была отрезвляюще холодной. Максим прижимался спиной к двери, усевшись на полу и поджав ноги. Шаги в коридоре стихают, и Максим, наконец, может восстановить дыхание, не боясь того, что отец начнет к нему ломиться. Ещё неделю назад у них перегорела одна из ламп, которую отец обещал поменять, но сейчас это спасало от собственного вида в зеркале – разглядеть синяки, расцветающие на бледной коже, в полутьме было невозможно.
Тишина квартиры давила на голову. Раньше их дом был совсем не таким. На кухне всегда бубнило радио, которое мама выключала только на ночь, а из комнаты доносились звуки телевизора. Вся квартира была наполнена шумом жизни, семьи, которой они когда-то были. До того, как мама сдалась. До того, как отец сорвался. Максим не привык к тишине, поселившейся под боком. Она страшная, гнетущая, пугающая. Пустая и холодная.
В глубине квартиры, там, где прячется отец, затихает телевизор – пьяный дебош закончился, он снова засыпает, словно ничего не произошло. Максима это задевает каждый раз. Забитый, напуганный и растерянный он, словно нашкодивший щенок, забивается в угол, а его главный кошмар сладко спит, похрапывая и переворачиваясь с одного бока на другой.
Макс не спит всю ночь, слой за слоем замазывая синяки мазью, которой пропах от и до. Она не помогает совершенно, не впитывается и склеивает пальцы, но Макс дрожащими руками продолжает мазать, словно вылей он на себя весь тюбик и болеть перестанет. Словно это избавит его вопросов учителей и одноклассников, которые косятся на него. Это не страшно – Максим смирился. Привык к взглядам с сожалением, тихим перешептываниям за спиной и слухам, что доносятся до его ушей из каждого уголка.
Школа – маленькая деревня, где каждый друг друга знает. Прятаться Макс умел, ему не привыкать, а резкие слова давно не режут уши – страшнее, когда тихо. Если молчат, значит конец. Молчат только о мертвых, о тех, о ком уже нечего сказать. Перед бурей всегда тихо, это Максим тоже запомнил очень хорошо, даже проверил на опыте. Десяток раз. Только вот вопросы у учителей с каждым разом все неудобнее, шальные взгляды одноклассников пронзительнее, а слухи громче, грязнее, извращённее. Прятаться сложнее, если за тобой следят за каждым углом. А может, Максим это все выдумал? Кому какое дело до избитого мальчика, которого бросила мать?
– Эй, Котов, – с задних парт слышен голос кого-то из одноклассников. Кажется, Борисов – главарь местной шайки, возомнившей себя королями дворов. На большее им рассчитывать не стоит, пусть гордятся. – Домашку сделал?
Максим молчит, утыкается носом в учебник, закрывая глаза, и тихо вздыхает. Если ты не видишь, значит не существует. Если не видят тебя, то и ты не существуешь. Не высовываться, не показываться, не выделяться.
– Алло, я с кем говорю? – голос у Борисова звонкий, по ушам проезжается хорошенько. Он сам из себя назойливый тип, неприятный. Таких боятся, поэтому слушаются. А Максим вот не боится, ему терять нечего, у него и нет ничего. – Отец тебе последние мозги отбил что ли?
Вот он. Крючок, на который невозможно не клюнуть. Макса дрожь пробирает до самых костей, холод бежит от головы, задевая сердце и забирая его в пятки. Он дергается, смахивая блондинистую челку со лба, жмурится, сжимается весь, но сдается и оборачивается.
– Да отвянь от него, Дэн, – кто-то из шайки смеется, звонко и противно. Гиены. – Видно же, пацану не до тебя.
– Я вопрос, блять, задал.
– Сделал, – сдавленно шепчет Макс, закрывая учебник. Оборона разгромлена. Пойман.
– Вот сразу бы так, – Борисов улыбается и подходит ближе, протягивая руку. – Дай сравнить, а?
Три. Два. Один.
Максим неуверенно скользит ладонью по тетради.
Один. Два. Три.
Цепляет пальцами и, отвернувшись, отдает тетрадь Борисову. Сдался.
Проще уступить, не нарываться, не привлекать к себе ненужное внимание. Как минимум, пока не заживут старые синяки. Максим сам по себе маленький, хрупкий, на его теле не осталось чистой кожи, которую бы не тронули бутоны чернеющих гематом. Если Борисов полезет – сломает окончательно, а дружки добавят, не оставив от Макса даже намека на живого человека.
Звенит звонок. В кабинет заходит учительница, окидывая немую сцену своим цепким взглядом. Тетрадь вновь возвращается к Максиму, помятая и засаленная – у Борисова, почему-то, всегда ужасно потные ладони, от которых на парте остаются мокрые следы. Максим не брезгливый, он привык – оттирает следы чужих лап рукавом толстовки и усердно делает вид, что слушает учительницу, раз за разом заглядывая в окно, где распускается весна.
Отсчёт пошел. Весна наступает, остаются считанные месяцы до совершеннолетия и возможности сбежать. Максим слишком хорошо научился терпеть. Для него это ничто. Он справится.
Кирилл: Весна
– Эй, Кирюх, – Сашка пинает под коленку, сбрасывая пепел в сторону. Он скуривал добрую половину пачки из кармана Кирилла, постоянно обещая вернуть, но еще ни разу не возвращал свой долг. – Ты куда улетел-то опять?
Они стояли у свежевыкрашенного подъезда, задрав головы вверх. Статная высотка уходила далеко-далеко, задевая крышей облака и мешаясь птицам. Кирилл таких раньше не видел, не то, что жил в них. Его собственный дом, в котором он вырос, начитывал не больше пяти этажей, а родительский, чужой и холодный, поднялся всего на два этажа выше. Семиэтажка, в которой Кирилл снимал комнату, как и родительская, уже казались Кириллу уродливыми громадинами, а тут, кажется, ещё чуть-чуть и небо треснет, не выдержав давления.
– Не думаю, что смогу позволить себе жить… тут, – Кирилл выбрасывает бычок ровно в мусорку (район-то вон какой! Поймают еще) и прячет руки в карманы, оглядываясь.
– Не ссы, – энтузиазма в голове Сашки не занимать. Он закидывает руку на плечо друга и тянет за собой. – Говорил же, все порешаем. У начальника узнал, он тебя ждет. Ну, а потом туда-сюда и вот тебе новая хата.
«На словах-то всё просто» – чесалось на языке, но Кирилл смиренно молчал, стараясь поспевать за Сашкой. Тот, казалось, пылал изнутри, обжигая своей радостью. Вот-вот и лопнет от восторга, словно это ему предложили снимать квартиру почти на крыше за сущие копейки. Только «копейки» это были при условии, что Кир не провалится на собеседовании, которое ему организовал Сашка – с нынешней зарплатой Кирилл мог позволить себе условия не лучше, чем у Инны Андреевны, при всём уважении к этой добрейшей женщине.
Квартира оказалась чудом наяву, совершенно не похожим на ту комнатушку, в которой Кирилл жил сейчас. Та смахивался скорее на небольшую кладовку, из которой вытащили весь мусор, чтобы было куда поставить раскладушку. Запах застоявшейся пыли пропитал одежду почти моментально, все вещи Кирилла пропахли той безысходностью, которая наполнила каждый уголочек квартиры. Но не то, чтобы Кир жаловался – это было лучшее, что он мог позволить себе.
Ободравшиеся обои не были заметными при слабом освещении в ночи – раньше Кирилл домой не возвращался. А скрипучее подобие кровати казалось мягчайшей пуховой периной после целого дня на ногах. Ему не привыкать ужиматься, однако самостоятельная жизнь оказалась совершенно не такой сладкой, как грезилось в пятнадцать.
Единственное, что особенно нравилось Кириллу в этой квартире, которую он делил с хозяйкой, – пошарпанная кухня. Она была невероятно маленькая – вот-вот и треснет по швам, не вмещая в себя больше двух человек. Но было в этой кухоньке что-то притягательное. Может дело в единственной лампочке на потолке, из-за которой кухня всегда была в мягком полумраке. Или в том, как по утрам в мутные окна забирались робкие солнечные лучи, разбегающиеся по потемневшим обоям, а в приоткрытую форточку проскальзывал ветер, играясь с легким тюлем. Казалось, кухня была отдельной вселенной, в которой жизнь идёт совершенно по-другому.
Утро было единственным временем, в которое Кирилл пересекался с хозяйкой квартиры. У них был особенный ритуал, который не нарушался ни при каких условиях – утренний кофе в тишине просыпающегося мира. Кирилл мало что знал про Инну Андреевну, однако тот факт, что встаёт она неприлично рано понял достаточно быстро. Иногда они пересекались в невероятный момент, когда для одного день ещё не закончился, а для второго только-только начался.
– Ты очень много работаешь, Кирюша, – причитала хозяйка, не отрывая взгляда от плиты, на которой вот-вот сбежит кофе из почерневшей турки. Другого кофе в этом доме не принимали. – Совсем себя погубишь.
– Не волнуйтесь, Инна Андреевна, у меня всё в порядке, – и они замолкали, изредка хлюпая из чашек, позволяя тихой лжи расположиться на соседней табуретке. Они оба знали, что вот она – поглядывает на них из-за стола, постоянно тыкая в бок, пытаясь обратить на себя внимание, но не замечать её было проще, чем что-то изменить.
– Как же ты похож на моего сына, – ещё одна особенность, которую Кирилл заметил в Инне Андреевне – она нежнейшей любовью любила своего сына, вспоминая о нём при каждом удобном случае. Её голос менялся, стоило только задуматься и туманным взглядом уставиться в окно. Инна Андреевна прекрасная женщина, Кирилл не мог с этим спорить, но до чего же она была одинока.
Ей бы проживать свои лучшие годы в окружении внуков, счастливой и умиротворённой, а не ждать весточки от сына, бросившего всё ради несбыточной мечты служить Родине. Только вот их жизнь Кирилла никак не касалась, ему не за чем жалеть их, да и жалость тут не поможет. Дали место, где можно ночь пережить, и на том спасибо. Большего он не требовал и в чужие семьи не лез – со своей бы разобраться. Кирилл не хотел быть ещё одной проблемой в жизни Инны Андреевны, поэтому молча допивал кофе и забирался в тёмную комнатушку, чтобы поспать и переодеться.
Пока в один момент непутёвый сын не решил вернуться в родные края. Какой же это был праздник для Инны Андреевны! Казалось, в её старенькое, сухое тело вновь пробралась молодость. Спокойная, тихая женщина в момент обернулась суетной девчонкой, летающей по квартире с такой лёгкостью, словно не было никакой тяжести прожитых лет. Кирилл не мог разделить с ней восторг. В его двери стучалась не радость от встречи с любимым, родным, долгожданным человеком. На его пороге стояла трагедия под руку с безнадёгой. Старые подружки, следующие за ним по пятам.
Спрятаться вновь не удалось.
А потом появился Сашка.
Они познакомились в один из перекуров, когда Кирилл особенно остро ощущал свою безысходность. Лохматый мальчишка с огромными карими глазами, в которых отражался весь мир, и улыбкой, что сияла ярче летнего солнца. На тонких плечах свисал пустой рюкзак, а на ключах постоянно бренчал дурацкий брелок с динозавриком. Сашка казался юностью в теле человека – от него пахло газировкой, сигаретами и жарким днём.
– Сигаретки не найдётся? – первое, что услышал Кирилл, подняв голову. Бездонный взгляд незнакомца забирался под кожу, проникал глубоко в душу в поисках самых потаённых секретов, которые никогда не решишься озвучить, и от этого становилось некомфортно. Кирилл осмотрел его с ног до головы – потертые спортивки, кеды, видавшие виды, и летящая майка, сползающая с плеч. Оборванец, каких по городу сотни. Такой же, как сам Кирилл.
Они быстро сладили. Для Кирилла это было в новинку. Он, колючий и холодный, не притягивал к себе людей, наоборот. Казалось, вся его сущность сотворена из кинжалов – беспощадных и острых. Отпугнуть, чтобы не ранили первее. Не подпускать к себе людей было проще, чем справляться с их уходом. Это Кирилл усвоил очень хорошо в свои трогательные девятнадцать.
А Сашка был другой, противоположный. Он как летний полдень: яркий, теплый, такой уютно-спокойный. В нем словно не было острых углов, с такой лёгкостью он принимал людей в свой круг. Пришёл и пушистым котом устроился под боком в жизни Кирилла, не принимая отказов.
А впрочем, Кирилл слишком устал бороться и сыпать отказами. Он просто смирился.
Кирилл оглядывается весь путь от подъезда до квартиры. Лифт тихо ухает, пищит и двери открываются с тяжелым лязгом металла. Их встречает строгая женщина со сдержанной улыбкой, представляется им Натальей и провожает до квартиры, начиная свой рассказ о том, почему им нужна именно эта квартира. Имя режет Кириллу по ушам и он тут же вспоминает мать – они с этой женщиной даже похожи. Эти удушенные эмоции, спрятанные за слоем тонального крема и натянутыми, скромными улыбками. Мама стала такой же, как только встретила отчима. Кириллу очень нравился её громкий смех, но он не слышал его так долго, что сомневался слышал ли он его на самом деле.
Низкие каблучки женщины стучат по полу, пока она легко перебегает из комнаты в ванную, не замолкая ни на секунду. Кирилл быстро отключается, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Ему понравилась эта студия под крышей с самой первой фотографии, которую ему скинул Сашка, но смотреть на нее вживую было ещё приятнее. Квартирка представляла из себя небольшую комнату, посреди которой стоял диван и столик. В углу пряталось кресло, которое, как оказалось, раскладывалось.



