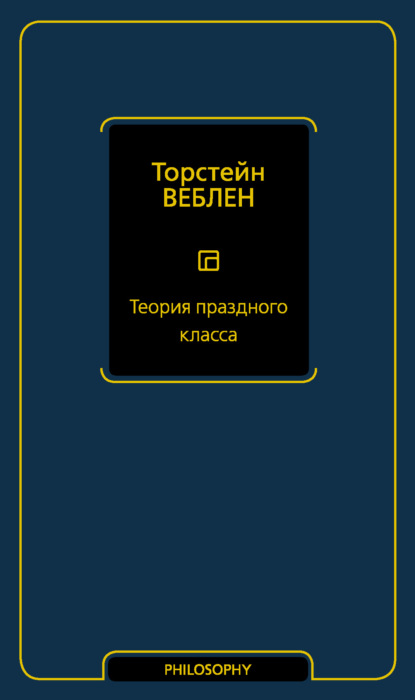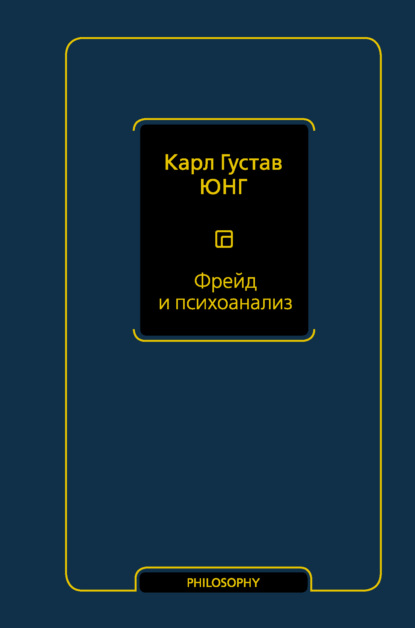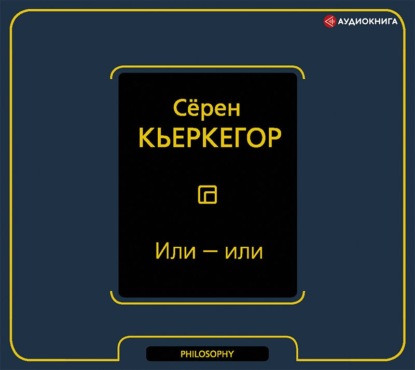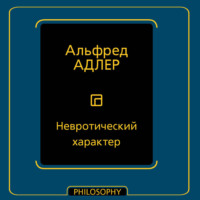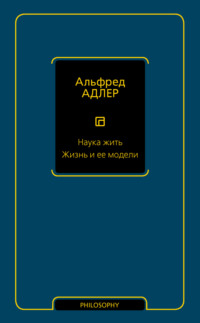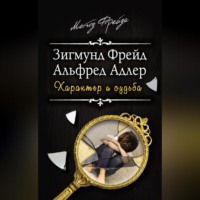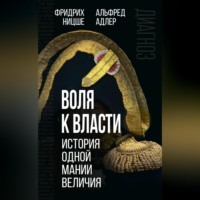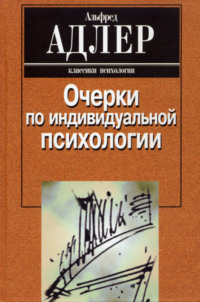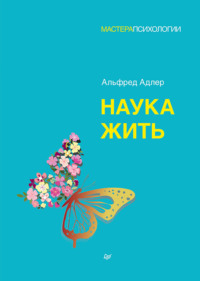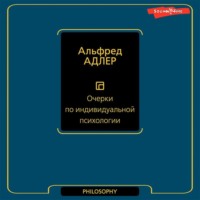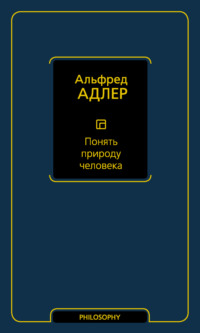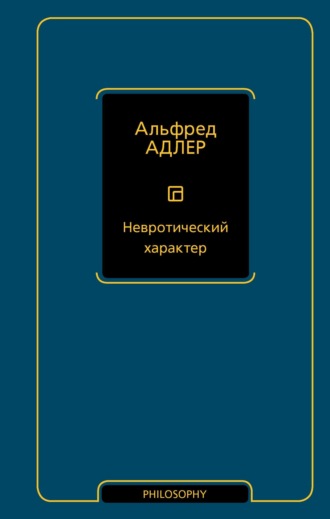
Полная версия
Невротический характер
В качестве невротической постановки цели мы обнаружили повышение личностного чувства, простейшая формула которого распознается в преувеличенном мужском протесте. Формула «Я хочу быть полноценным мужчиной!» – это руководящая фикция, так сказать, «фундаментальная апперцепция» (Иерузалем[8]) в любом неврозе, где она в большей степени, чем применительно к нормальной психике, притязает на то, чтобы обладать ценностью реальности. И этой руководящей идее подчиняются также либидо, сексуальный инстинкт и склонность к перверзии, откуда бы они ни происходили. Ницшевские понятия «воля к власти» и «воля к видимости» во многом согласуются с нашей концепцией, которая в некоторых точках соприкасается со взглядами Фере[9] и более ранних авторов, полагавших, что чувство удовольствия коренится в ощущении власти, а неудовольствия – в ощущении бессилия.
Второе возражение касается основного воззрения Фрейда на сексуальную этиологию неврозов; очень близко к этим взглядам подошел Пьер Жане, когда поднял такой вопрос: «Должно ли восприятие пола быть центром, вокруг которого выстраиваются другие психологические синтезы?» Удобство применения сексуального образа вводит в заблуждение многих людей, особенно невротиков. У мистиков, например у Баадера[10], часто встречается нечто подобное. Сам язык с его склонностью к образности расставляет рискованные ловушки простодушному исследователю. Психологи не должны дать себя обмануть. Сексуальное содержание в невротических феноменах происходит преимущественно из идеального противопоставления «мужское – женское» и возникает в результате изменения формы мужского протеста. Сексуальный стимул в фантазии невротика, как и в его жизни, обусловлен постановкой мужской цели, и по своей сути это не инстинкт, а понуждение. Вся картина сексуального невроза есть притча, в которой отражается дистанция пациента от его фиктивной мужской конечной цели и то, как он пытается эту дистанцию преодолеть или увековечить[11]. Странно, что Фрейд, тонкий знаток символического в жизни, не сумел разобраться с символическим в сексуальной апперцепции, распознать сексуальное как жаргон, как modus dicendi[12]. Но мы сможем понять это, если примем во внимание его третье основное заблуждение, а именно предположение о том, что невротик будто бы находится под принуждением инфантильных желаний, прежде всего желания инцеста, которые оживают каждой ночью (теория сновидений), а также – при определенных обстоятельствах – в действительности. На самом деле все инфантильные желания сами по себе уже находятся под принуждением фиктивной конечной цели и сами носят характер направляющей, но все-таки подчиненной мысли; в силу экономичности мышления они являются очень подходящими символами для «психологических расчетов». Больная девушка, которая все свое детство, чувствуя особую незащищенность, льнет к отцу и при этом хочет превзойти мать, при случае может уместить эту психическую констелляцию в «инцестуозную притчу», как если бы она хотела быть женой отца. Конечная цель при этом уже задана и действует: избавиться от чувства незащищенности, а это возможно, только если она будет с отцом. Ее психомоторика, ее бессознательно действующая память отвечают на любое ощущение незащищенности одной и той же агрессией: подготовительной установкой бегства к отцу, как если бы она была его женой. Там, при отце, у нее будет то более высокое личностное чувство, которое и было ее целью и которое она позаимствовала у мужского идеала детства, – то есть там она получит сверхкомпенсацию своего чувства неполноценности. Она действует символически, когда пугается любовного ухаживания или брака, ведь то и другое угрожает принижением ее личностного чувства, ведь в том и другом она видит больше трудностей, чем находясь при отце, и ее позиция готовности целесообразно направляется против женской судьбы, заставляя ее искать безопасность там, где она находила ее всегда, – у отца. Она применяет некий искусный трюк, руководствуется бессмысленной фикцией, но тем самым может наверняка достичь своей цели – уклониться от женской роли. И чем больше ее чувство незащищенности, тем сильнее она цепляется за свою фикцию, принимает ее почти буквально, а поскольку человеческое мышление легко склоняется к символической абстракции, то пациентке – а при некотором усилии и аналитику – удается иногда осуществить стремление невротиков: обезопасить себя, ухватить символический образ инцестуозного влечения, получить превосходство, как это было при отце.
Фрейд вынужден был усматривать в этом процессе, направленном на некую цель, оживление инфантильных желаний, потому что он представлял последние как движущие силы. Мы же распознаем в этом инфантильном способе работы, в обширном применении защитных вспомогательных конструкций, каковыми можно считать невротическую фикцию, в этой всесторонней, далеко простирающейся моторной подготовке, в сильной тенденции к абстракции и символизации – рациональные средства невротика, стремящегося обрести безопасность, повысить свое личностное чувство, осуществить мужской протест. Невроз показывает нам исполнение ошибочных намерений. Любые помыслы и поступки можно ретроспективно проследить вплоть до детских переживаний. По Фрейду, в «регрессии» душевнобольной ничем не отличается от здорового. Кроме одного: первый опирается на далеко зашедшие заблуждения, принимает неправильную позицию в жизни. Но «регрессия» тем не менее – это нормальный случай мышления и действий.
Если добавить к этим критическим замечаниям вопросы: как возникают невротические явления, почему пациент хочет «быть мужчиной» и беспрестанно пытается доказать свое превосходство, откуда у него потребность в более сильном личностном чувстве, почему он идет на такие издержки ради достижения безопасности? Короче говоря, если мы зададим вопрос о главной причине этих ухищрений невротической психики – то любое исследование даст следующий ответ: в начале развития невроза стоит угрожающее чувство незащищенности и неполноценности, и оно властно требует направляющей, надежной, успокаивающей целевой установки, конкретизации цели превосходства, чтобы сделать жизнь сносной. Сущность невроза состоит в увеличенном расходовании имеющихся психических средств. Среди них на первый план выступают вспомогательные конструкции и шаблоны мышления, действий и желаний.
Ясно, что такая психика, находясь в особенном напряжении ради возвеличивания личности, обращает на себя внимание из-за очевидных затруднений при встраивании в общество, в профессиональную сферу и в любовные отношения, не говоря уже об однозначных невротических симптомах. Ощущение, что у него есть слабая точка, овладевает невротиком настолько, что он, сам того не замечая и напрягая все силы, воздвигает защищающую надстройку. При этом обостряется его чувствительность, он научается обращать внимание на такие связи, которые от других людей ускользают, он усиливает свою осторожность, начинает предчувствовать все возможные последствия любого дела или переживания, он пытается «дальше» слышать, «дальше» видеть, становится мелочным, ненасытным, бережливым, старается все больше расширить границы своего влияния и власти во времени и пространстве – и при этом теряет непредубежденность и душевный покой, которые только и гарантируют психическое здоровье и активную деятельность. Все больше усиливается в нем недоверие к себе и к другим; в нем берут верх зависть, злоба, агрессивные и жестокие наклонности, которые должны создать ему перевес над окружающими. Или же он пытается пленить, покорить других людей своим преувеличенным послушанием, подчинением и смирением, которые нередко вырождаются в мазохистские черты; то и другое – и повышенная активность, и преувеличенная пассивность – есть искусные трюки, которые инициируются фиктивной целью: усилением власти, желанием «быть вверху», мужским протестом. Преувеличивая отдельные жизненные проблемы (независимость, осторожность, чистоплотность и т. д.), невротик нарушает связь с жизнью и оказывается на ее бесполезной стороне, там, где мы сталкиваемся с трудновоспитуемыми, с нервнобольными, преступниками, самоубийцами, извращенцами и проститутками.
Кречмер[13] недавно описал картины душевных расстройств, относящихся к шизотимическому кругу, и они полностью тождественны изображенным мною – настолько, что он сам в одном месте отмечает, что подобные типы иногда можно описать как проявления «нервозного» характера. Тот, кто знаком с изложенными ниже данными о неполноценности органов, без труда распознает в его «шизотимических типах» то же самое. Результаты дальнейших исследований этого автора, особенно данные по физиогномике, могут только радовать. Если они подтвердятся, то врожденную неполноценность органов можно будет буквально считывать с лица пациента. Правда, пессимизм Крепелина[14], сковывая Кречмера, как и всю современную психиатрию, мешает ему положительно оценить обучаемость людей с органической неполноценностью.
Итак, мы подошли к тем психическим явлениям, обсуждение которых и составит содержание данной работы, – к невротическому характеру. У невротиков нет каких-то совершенно новых черт характера, у них ни одной черты, которую нельзя было бы обнаружить у людей с нормальной психикой. Но невротический характер бросается в глаза и во всеуслышание заявляет о себе, хотя иногда он становится понятным и врачу, и пациенту только в процессе анализа. Невротический характер будто всегда «настороже», он как некий форпост, он словно пытается установить связь с окружающим миром и с будущим. Если представить эти его далеко простирающиеся психические готовности как чувствительные зонды, то становятся понятными борьба невротика с его проблемой, его раздраженный инстинкт агрессии, его беспокойство и нетерпение. Эти зонды как будто «ощупывают» все явления окружающего мира и непрерывно испытывают их с точки зрения пользы или вреда в отношении поставленной цели. Психические готовности настойчиво толкают к скрупулезному измерению и сравнению и, будучи всегда начеку, пробуждают страх, надежду, сомнение, отвращение, ненависть, любовь, всякого рода ожидания, пытаясь защитить психику от любых неожиданностей и от ослабления личностного чувства. Они создают самые периферические двигательные «наработки», они всегда мобильны, всегда готовы предотвратить любое унижение. Эти психические готовности движимы внутренним и внешним опытом, они испещрены следами воспоминаний о пугающих и утешительных переживаниях и преобразовали память о них в автоматизированные навыки. Категорические императивы второго ранга, они предназначены не ради собственного осуществления, но в конечном итоге ради возвышения личности. И они пытаются делать это, помогая прокладывать направляющие линии в беспокойстве и неопределенности жизни, создавать и разделять правое и левое, верх и низ, правильное и неправильное. Обостренные черты характера отчетливо обнаруживаются в невротической предрасположенности детской души, когда они дают повод ко всяким странностям и причудам.
Еще более отчетливо они проступают тогда, когда после какого-то сильного унижения или возникшего вдруг противоречия относительно собственного превосходства предохранительная тенденция шагает еще дальше и вызывает к жизни некие симптомы в качестве новых эффективных трюков. Они многократно отрабатываются по образцам и примерам, и их задача заключается в том, чтобы в любой новой ситуации инициировать борьбу за личностное чувство и создавать видимость победы в ней. Поводом для того, чтобы запустить их в действие, является повышение аффекта и снижение порога раздражимости, по сравнению с нормальной психикой. Само собой разумеется, что невротический характер, как и нормальный, строится из того материала, который изначально имеется в наличии, из психических побуждений и опыта функционирования органов. Все эти привязанные к внешнему миру психические готовности становятся невротическими только в том случае, когда предстоит принять решение, когда внутренняя нужда усиливает предохранительную тенденцию, а последняя более эффективно формирует черты характера и мобилизует их, когда фиктивная цель в жизни становится более догматичной и усиливает соответствующие чертам характера вторичные направляющие линии. Затем начинается гипостазирование[15] характера, он превращается из средства в цель, что приводит к его обособлению, а своего рода освящение придает ему неизменность и непреходящую ценность. Невротический характер не может приспособиться к реальности, так как он работает на недостижимый идеал; он есть продукт и средство предубежденной, исполненной недоверия психики, которая усиливает его направляющую линию, чтобы избавиться от чувства неполноценности; эта попытка обречена на неудачу вследствие внутренних противоречий или своей ошибочности либо она разбивается о культурные барьеры или права других людей. Как ощупывающие жесты, обращенная назад поза, положение тела при агрессии, мимика являются средствами выражения и передачи информации – точно так же и черты характера, особенно невротические, служат психическими средствами и формами выражения для того, чтобы производить жизненные расчеты, занять какую-то позицию, обрести фиксированную точку в хаосе бытия и тем самым достичь защищающей конечной цели, чувства сверхполноценности, или не допустить провала.
Таким образом, мы разоблачили невротический характер как служащий фиктивной задаче и установили его зависимость от конечной цели. Он не произрастает сам по себе из каких-то биологических или конституциональных первичных сил, а получает направление и ход благодаря компенсирующей надстройке в психике, а также своей схематичной направляющей линии. Невротический характер формуется под прессом неуверенности, его склонность к персонификации есть сомнительный успех предохранительной тенденции. Благодаря целевой установке линия невротического характера приобрела задачу: влиться в линию превосходства, и в результате любая черта характера своей направленностью показывает нам, что она пронизана стремлением к власти, которое пытается сделать из нее безошибочное средство для исключения из жизненных переживаний любого длительного унижения.
В практической части будет показано, как невротическая схема порождает особые психопатологические констелляции, и именно посредством «захватывания» невротическим характером определенных переживаний, то есть посредством невротической жизненной техники.
I. Происхождение и развитие чувства неполноценности и его следствия
В «Учении о неполноценности органов» были сделаны выводы относительно причин, функционирования, внешнего вида и измененных способов работы неполноценных органов, что, в частности, позволило мне предположить наличие компенсации со стороны центральной нервной системы, а вслед за тем углубиться в проблемы психогенеза. В итоге выявились примечательные отношения между неполноценностью органов и психической сверхкомпенсацией, в результате чего я сформулировал фундаментальное положение: ощущения неполноценности органов становятся для индивидуума постоянным стимулом развития психики. В физиологическом аспекте это приводит к усилению – качественному и количественному – нервных путей, причем одновременная изначальная неполноценность этих путей может привести к тому, что их тектонические и функциональные свойства отобразятся в общей картине. Психическую же сторону такой компенсации и сверхкомпенсации можно понять только посредством психологических разборов и анализа.
Подробные описания неполноценности органов как этиологии невроза имеются в более ранних моих трудах, в частности в «Учении…»[16], об инстинкте агрессии[17], о психическом гермафродитизме[18], невротической предрасположенности[19] и психическом лечении невралгии тройничного нерва[20]. В настоящей же работе я хотел бы ограничиться теми моментами, которые помогут более глубоко вскрыть отношения между неполноценностью органов и психической компенсацией и имеют значение для проблемы невротического характера. Обобщая, подчеркну, что описываемая мною неполноценность органов заключает в себе «незрелость тех или иных органов, остановку в их развитии, которая часто может быть доказана, гистологические или функциональные дефекты, нарушения их функций в постфетальном периоде, а с другой стороны – усиление тенденции роста, что обусловлено необходимостью компенсации и корреляции, часто – усиление функций, но также и фетальный характер органов и систем органов». В каждом случае, при наблюдении за детьми или сборе анамнеза у взрослых, легко доказать, что наличие неполноценных органов рефлекторно воздействует на психику ребенка – понижает его самооценку и повышает степень его психологической незащищенности; но именно из-за этой заниженной самооценки разворачивается борьба за самоутверждение, которая принимает куда более острые формы, чем можно было бы ожидать. Когда компенсированный неполноценный орган активизирует свою деятельность количественно и качественно, и при этом задействуются защитные средства – и его собственные, и всего организма, предрасположенный ребенок, испытывающий чувство неполноценности, извлекает из своих психических возможностей порой поразительные средства для усиления ощущения собственной значимости, и среди этих средств в первую очередь нужно особо отметить невротические и психотические.
Идеи о врожденной неполноценности, патологической предрасположенности и слабости конституции уже появляются в научной медицине. И если мы отказываемся здесь рассматривать многие значимые достижения – несмотря на то что они зачастую содержат в себе фундаментальные точки зрения, – то только по той причине, что они лишь констатируют взаимосвязь между органическими и психическими заболеваниями, но ни в коей мере не объясняют ее. В частности, это все взгляды на патологию, опирающиеся на общее понятие дегенерации. Гораздо дальше идет Штиллер[21] в своем учении об астеническом габитусе: он уже пытается установить этиологические связи. Г. Антон[22] в своем учении о компенсации слишком ограничивается системой корреляций в рамках центральной нервной системы; однако все же он и его талантливый ученик Отто Гросс[23] предприняли достойные внимания попытки лучше понять на этой основе картины психических состояний. Брадитрофия Бушара[24], экссудативный диатез, описанный Понфиком[25], Эшерихом[26], Черни[27], Моро[28] и Штрюмпелем[29] и объясненный как болезненная готовность, инфантильный артритизм Комби, ангионевротический диатез Крейбиха, лимфатизм Хойбнера[30], статус тимико-лимфатикус[31] Палтауфа[32], спазмофилия Эшериха и ваготония Гесса – Эппингера[33] – все это успешные попытки последних десятилетий связать картины болезненных состояний с врожденной неполноценностью тех или иных органов. Все эти попытки объединяет намек на наследственность и инфантильные особенности. И хотя сами эти исследователи подчеркивают, что границы между описанными предрасположенностями весьма зыбкие, трудно отделаться от впечатления, что тут схвачены примечательные типы, которые со временем будут отнесены к одной большой группе – группе минус-вариантов[34]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Имеется в виду психологическое значение этого термина – вхождение индивидуума в цивилизованный мир. – Здесь и далее прим. переводчика, если не указано иное.
2
Вирхов, Рудольф Людвиг Карл (1821–1902) – знаменитый немецкий ученый и политический деятель; один из основоположников клеточной теории в медицине и биологии.
3
Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., издательство «Наука», 1977.
4
Жане, Пьер Мари Феликс (1859–1947) – французский психиатр, психолог, невролог.
5
Блейлер, Эйген (1857–1939) – швейцарский психиатр; ввел термин «шизофрения». – Прим. Э. Соколова.
6
Штерн, Вильгельм (Уильям) Людвиг (1871–1938) – немецкий психолог и философ; одним из первых ввел понятие дифференциальной психологии и психологии личности.
7
Брейер, Йозеф (1842–1925) – австрийский врач, наряду с З. Фрейдом считающийся основателем психоанализа.
8
Иерузалем, Вильгельм (1854–1923) – австрийский историк, психолог, педагог.
9
Фере, Шарль Самсон (1852–1907) – французский врач, занимался, в частности, гипнозом.
10
Баадер, Франц Ксавер фон (1765–1841) – немецкий философ и теолог.
11
См.: Adler A. Das Problem der Distanz // Praxis und Theorie der Individualpsychologie. 3. Aufl. München, 1927. – Прим. автора.
12
Способ выражения (лат.).
13
Кречмер, Эрнст (1888–1964) – немецкий психиатр и психолог; создал типологию конституции и определил ее связи с психическими расстройствами.
14
Крепелин, Эмиль Вильгельм Магнус Георг (1856–1926) – знаменитый немецкий психиатр, основоположник классификации психических заболеваний; ввел в научный оборот множество психиатрических терминов и понятий. Известен также своей педагогической деятельностью.
15
От лат. hypostasis – застой; здесь в смысле – окостенение, затвердевание. – Прим. Э. Соколова.
16
Adler A. Studie über Minderwertigkeit von Organen. München, 1927. – Прим. автора.
17
См.: Adler A. Füertmueller C., Wexberg E. (Hrsg,). Heilen und Bilden. 2. Aufl. München, 1922. – Прим. автора.
18
См.: Adler A. Fuertmüeller C., Wexberg E. (Hrsg,). Heilen und Bilden. 2. Aufl. München, 1922. – Прим. автора.
19
Там же.
20
См.: Adler A. Praxis und Theorie der Individualpsychologie, 3. Aufl. München, 1927. – Прим. автора.
21
Штиллер, Бертхольд (1837–1922) – австро-венгерский терапевт.
22
Антон, Габриэль (1858–1933) – немецкий невропатолог и психиатр.
23
Гросс, Отто Ганс Адольф (1877–1920) – австрийский психоаналитик, один из учеников З. Фрейда.
24
Бушар, Шарль-Жозеф (1837–1915) – французский врач, патолог, невролог.
25
Понфик, Эмиль (1844–1913) – немецкий патолог; в 1868–1873 гг. работал ассистентом Р. Вирхова.
26
Эшерих, Теодор (1857–1911) – австрийский ученый, педиатр. В частности, открыл и описал кишечную палочку, названную впоследствии его именем: Escherichia coli.
27
Черни, Адальберт (1863–1941) – австрийский и немецкий врач, один из основоположников современной педиатрии.
28
Моро, Эрнст (1874–1951) – австрийский педиатр.
29
Штрюмпель, Адольф фон (1953–1925) – немецкий невролог.
30
Хойбнер, Отто (1843–1926) – немецкий педиатр.
31
Конституциональный тип ребенка, связанный с нарушением иммунитета. – Прим. Э. Соколова.
32
Палтауф, Рихард (1858–1924) – австрийский патолог и бактериолог.
33
Гесс, Вальтер Рудольф (1881–1973) – швейцарский врач и физиолог; предложил классификацию конституций человека, основанную на особенностях функционирования вегетативной нервной системы (симпатикотония, ваготония, нормотония); Эппингер, Ганс (1879–1946) – австрийский врач.
34
Особи, имеющие показатель признака ниже средней величины для всей группы.