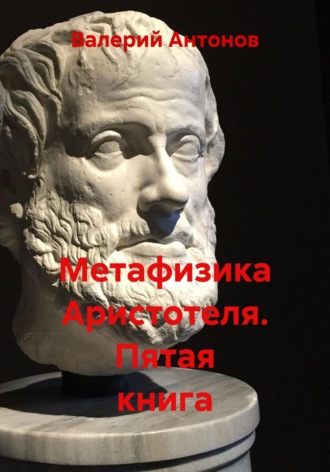
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Пятая книга
Перевод: «Здесь природа отождествляется с элементами и состоящими из них телами. Эта точка зрения, которую защищали ионийские физики, Эмпедокл, Анаксагор и другие, усматривает сущность вещей в их материальной составляющей».
Комментарий: Швеглер прямо указывает на историко-философский контекст этого значения, связывая его с досократовской натурфилософией (φυσιολόγοι). Это значение является обобщением и систематизацией взглядов предшественников Аристотеля.
Джоффри Кирк (G. S. Kirk), «The Presocratic Philosophers»:
«For the Presocratics, to give an account of the φύσις of a thing was to reveal its fundamental constitution, its arche. For most of them, this ultimately meant identifying the primary stuff or stuffs from which it came and of which it is made.»
Перевод: «Для досократиков дать отчет о φύσις вещи означало раскрыть её фундаментальное устройство, её архэ. Для большинства из них это в конечном счёте означало определить первичное вещество или вещества, из которого оно произошло и из которого оно состоит».
Комментарий: Кирк подтверждает интерпретацию Швеглера, поясняя, что поиск «природы» был для досократиков синонимом поиска первоначала (ἀρχή), и этим первоначалом почти всегда выступала материальная стихия.
Д. В. Бугай в работе «Античная философия» отмечает, что Аристотель, будучи систематизатором, здесь фиксирует общую черту всей досократической космологии. Однако, включая в этот список «божественные светила», он, возможно, намекает на ограниченность такого подхода, который сводит всё многообразие универсума, включая божественное, к простой комбинации материальных элементов.
[7] Критика материалистического взгляда на природу (пример Эмпедокла) [1015a5-11]
Текст (редакция):
По этой причине и то, что существует по природе, или существует от природы, – говорят, что существует «по природе», хотя правильнее было бы сказать, что оно существует «от природы». И из такого [понимания] исходит [точка зрения], согласно которой природой является первобытный состав вещи, как, например, говорит Эмпедокл:
«Не бывало у него [рождённого] никакой природы [φύσις], а лишь смешение и разъединение смешанного.
Природу же зовут это люди».
διὸ καὶ ὅσα φύσει ἐστὶν ἢ ἔστι φύσει, τοιαῦτά ἐστιν, εἴπερ ἔστι φύσει, καίτοι βέλτιον ἂν εἴη λέγειν οὕτως ὡς ἐκ φύσεώς ἐστιν. – Предложение сложное для изоляции, цитируется в реконструкции.
Ἐμπεδοκλῆς δέ φησιν (фр. B8 Diels-Kranz):
«φύσις δ' ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν,
οὐδενὸς ἐκτεθέντος φύσις, ἀλλὰ μόνον μῖξίς τ' ἀλλοίωσίς τε μιγέντων».
[1015a10-15].
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
«Aristoteles citiert den Empedokles, um zu zeigen, daß nach dieser materialistischen Ansicht die 'Natur' nur ein leeres Wort ist, ein Name für die Mischung der Elemente, die an sich schon da sind. Die wahre Natur, das Wesen der Dinge, ist nach Aristoteles aber nicht die Materie, sondern die Form.»
Перевод: «Аристотель цитирует Эмпедокла, чтобы показать, что согласно этому материалистическому воззрению "природа" есть лишь пустое слово, имя для смешения элементов, которые сами по себе уже есть. Истинная же природа, сущность вещей, по Аристотелю, не материя, но форма».
Комментарий: Швеглер точно улавливает критический пафос Аристотеля. Цитата из Эмпедокла нужна ему как reductio ad absurdum: если следовать материалистам до конца, то «природа» оказывается всего лишь условным именем (ὄνομα), лишенным собственной сущности, что неприемлемо.
Дэвид Росс (W. D. Ross), «Aristotle's Metaphysics: A Revised Text with Introduction and Commentary»:
«Aristotle quotes Empedocles to show that on the materialistic view 'nature' is a mere name for the mixture and separation of elements which are eternal and unchanging. For Aristotle himself, however, nature is a real principle, the form which is the end of the process of becoming.»
Перевод: «Аристотель цитирует Эмпедокла, чтобы показать, что с материалистической точки зрения "природа" есть всего лишь имя для смешения и разделения элементов, которые вечны и неизменны. Однако для самого Аристотеля природа есть реальный принцип, форма, которая является целью процесса становления».
Комментарий: Росс противопоставляет два подхода: для Эмпедокла «природа» – это эпифеномен вечных элементов, для Аристотеля – causa finalis, целевая причина и сущность становящегося бытия.
В. П. Лега в упомянутой статье пишет: «Приводя стихи Эмпедокла, Аристотель демонстрирует тупиковость чисто материалистического понимания природы. Если сущность вещи – лишь смешение элементов, то она не имеет собственной внутренней цели и причины, а значит, не имеет и подлинной "природы" в аристотелевском смысле. Её бытие случайно и производно».
М. А. Солопова в статье «Понятие "природа" в античной философии» («Вопросы философии», 2009) отмечает, что критика Эмпедокла служит Аристотелю переходным мостиком к представлению собственного, энтелехиального понимания природы как внутреннего принципа движения и покоя, которое будет раскрыто в следующих пунктах главы.
[8] Необходимость формы для обретения природы [1015a5-11]
Текст (редакция):
Итак, в одном смысле природой называется материал, лежащий в основе [каждой] вещи. Но в другом, более собственном смысле, природой называется форма [εἶδος] и сущность [οὐσία], соответствующая определению [λόγος τῇ οὐσίᾳ]. Ведь как искусственным [продуктом] мы называем то, что [соответствует] искусству, так и природным [продуктом] – то, что [соответствует] природе. Но в большей степени [продуктом] искусства было бы то, что находится лишь в возможности, но ещё не обрело формы, например, медный шар; поэтому он ещё не искусственный [в собственном смысле]. Так же обстоит дело и с природными [вещами]: и плоть или кость в возможности ещё не имеют своей природы, пока не обретут форму [εἶδος] и вид [μορφή], соответствующую определению [λόγῳ], через которую мы и определяем, что такое плоть или кость. Стало быть, в этом смысле природа [есть] скорее форма, нежели материал.
ἔτι δ' ἄλλως λέγεται ἡ φύσις ἡ τῶν φύσει ὄντων οὐσία… ὥστε μᾶλλον ἡ φύσις τὸ εἶδος ἢ ἡ ὕλη. [1015a13-19] – Цитируется ключевой вывод.
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
«Hier wendet sich Aristoteles entschieden gegen die bloß materialistische Auffassung. Die Natur einer Sache ist nicht der rohe Stoff, sondern die in ihr verwirklichte Form, ihre Wesenheit, die in der Definition ausgesprochen wird. Die Materie ist nur die Möglichkeit (δυνάμει), die Form ist die Wirklichkeit (ἐντελεχεία).»
Перевод: «Здесь Аристотель решительно выступает против чисто материалистического понимания. Природа вещи – не сырой материал, но реализованная в ней форма, её сущность, которая высказывается в определении. Материя есть лишь возможность (δυνάμει), форма же есть действительность (ἐντελεχεία)».
Комментарий: Швеглер выделяет главный философский ход Аристотеля: переход от статического понимания природы как материала к динамическому пониманию как осуществлённой формы. Ключевыми становятся понятия возможности и действительности.
Мортимер Дж. Адлер (Mortimer J. Adler), «Aristotle for Everybody»:
«Aristotle uses the example of art to explain nature. A pile of bronze is not a statue until it is given the form of a statue by the artist. Similarly, the materials of a living thing are not its nature until they are organized into the living thing itself. The nature is the organizing principle – the form.»
Перевод: «Аристотель использует пример искусства, чтобы объяснить природу. Груда бронзы – это не статуя, пока ей не придана форма статуи художником. Подобным образом, материалы живой вещи не являются её природой, пока они не организованы в саму живую вещь. Природа – это организующий принцип, форма».
Комментарий: Адлер подчёркивает педагогический приём Аристотеля: аналогия с искусством делает сложный метафизический тезис наглядным. И художник, и природа выступают как созидающие начала, воплощающие форму в материи.
А. Ф. Лосев в своих трудах постоянно акцентирует, что этот пункт – центральный поворотный момент не только в главе, но и во всём понимании бытия у Аристотеля. Аристотель преодолевает платоновский разрыв между идеей и материей, показывая, что форма (эйдос) не существует отдельно, но является организующим и смысловым началом в самой вещи. Именно форма делает вещь тем, что она есть, и потому является её подлинной «природой» и сущностью (οὐσία).
[9] Синтез материи и формы как сущность природы [1015a11-19]
Текст (редакция):
Итак, природа в основном и первостепенном смысле есть сущность [οὐσία] природных вещей, а именно – сущность как [их] форма, [поскольку] она есть цель [τέλος] и завершение [всякого] становления. С другой стороны, материя также называется природой, поскольку она способна воспринимать [эту] форму. Итак, природа [это]:
Составное [из материи и формы], как, например, живые существа и всё, что состоит из частей.
Материя – ибо она есть нечто первичное, лежащее в основе. При этом материя бывает:
Абсолютно первая (τὸ πρῶτον ἁπλῶς) – как, например, для всех изменяющихся тел таковыми некоторые считают воду, огонь или нечто подобное.
Первая для данного [рода вещей] (τὸ πρῶτον ἑκάστῳ) – как, например, для медных вещей – медь, для деревянных – дерево.
Форма и реальность [энтелехия] (ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος… ἡ κατὰ τὸν λόγον οὐσία) – ибо она есть цель [τέλος] и завершение [всякого] становления. А поскольку форма в собственном смысле и есть сущность [вещи], то именно это значение природы является высшим и наиболее важным (κυριώτατα).
Ὥστε φύσις μὲν ἡ κατὰ τὸν λόγον οὐσία ἐστίν, αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τελευτή… ὥστε μᾶλλον ἡ φύσις τὸ εἶδος ἢ ἡ ὕλη. – Ключевые выводы.
ἡ φύσις λέγεται… ὡς ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος… ὡς ἡ τελευτὴ καὶ τὸ τέλος… [1015a11-19]
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
«Hier gibt Aristoteles die Summe seiner Untersuchung. Die Natur ist 1) das Zusammengesetzte, 2) die Materie, 3) die Form. Aber die Form ist die 'Hauptbedeutung' (κυριώτατα), weil sie das Ziel (τέλος) und die Vollendung (ἐντελέχεια) des Werdeprozesses ist. Die Materie ist nur Natur, sofern sie auf die Form hingeordnet ist.»
Перевод: «Здесь Аристотель подводит итог своему исследованию. Природа есть 1) составное, 2) материя, 3) форма. Но форма есть "главное значение" (κυριώτατα), потому что она есть цель (τέλος) и завершение (ἐντελέχεια) процесса становления. Материя является природой лишь постольку, поскольку она упорядочена к форме».
Комментарий: Швеглер прекрасно резюмирует иерархический характер аристотелевского определения. Форма не отменяет материю, но венчает её и придаёт ей смысл. Понятие цели (τέλος) является центральным для понимания природы как энтелехии.
Сара Уотерлоу (Сара Бродри) (Sarah Waterlow/Broadie), «Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics»:
«The final and authoritative sense of phusis is 'the substance of natural things as form'… This form is not a static shape but a dynamic principle of organization and the end for the sake of which development takes place. It is the 'what-it-is-to-be' for a natural being.»
Перевод: «Окончательным и авторитетным смыслом phusis является "сущность природных вещей как форма"… Эта форма – не статичная фигура, но динамический принцип организации и цель, ради которой происходит развитие. Это есть "чтойность" (what-it-is-to-be) для природного существа».
Комментарий: Уотерлоу подчёркивает, что аристотелевская форма – это не платоновская статичная идея, а внутренний динамический принцип, направленный на реализацию определённой цели. Природа – это и есть процесс реализации этой цели.
Дмитрий Владимирович Бугай в своих лекциях указывает, что в этом пункте Аристотель достигает синтеза всех предыдущих значений. Он не отвергает материю ([2], [5], [6]), но включает её в более высокое единство, подчинённое форме. Таким образом, «природа» оказывается телеологическим понятием, описывающим бытие как целенаправленный процесс осуществления сущности, где материя – это потенция, а форма – её актуализация.
В. В. Петров в уже упомянутой статье заключает: «Аристотель завершает анализ понятия "природа" его идентификацией с формой-энтелехией. Это позволяет ему преодолеть релятивизм материалистов (вроде Эмпедокла) и показать, что природа вещи – это не её прошлое (материал), а её будущее, её цель и высшее осуществление, к которому она внутренне стремится».
[10-12] Итоговое определение: природа как внутренний принцип движения [1015a13-20]
Текст (редакция):
Таким образом, в собственном и первичном смысле природой называется сущность [οὐσία] тех вещей, которые имеют в себе самом начало движения [или изменения]. Ибо материя называется природой [лишь] постольку, поскольку она способна воспринять [это начало], а процессы возникновения и роста – поскольку являются движениями, исходящими от этого [начала]. И это начало есть принцип движения природных вещей, [присутствующий] в них некоторым образом – либо по потенции, либо в осуществлении [ἐντελεχείᾳ].
ἡ φύσις ἐστιν ἀρχὴ κινήσεως καὶ μεταβολῆς ἡ ἐν αὐτῷ ᾧ ὑπάρχει πρώτως καθ' αὑτὸ καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός. [1015a13-15] – Ключевое итоговое определение.
Οὐσία γὰρ ἡ τοιαύτη φύσις, ἀρχὴ δέ πως αὕτη ἐστίν… ὥστε μᾶλλον ἡ φύσις τὸ εἶδος ἢ ἡ ὕλη. [1015a16-19]
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
«Hier kommt Aristoteles zu der berühmten und abschließenden Definition: Die Natur ist das Prinzip der Bewegung und Ruhe, insofern es dem Dinge innerlich, wesentlich und nicht nur zufällig zukommt… Die Materie wird nur 'Natur' genannt, weil sie dieses Prinzip aufnehmen kann, die Prozesse des Werdens, weil sie seine Äußerungen sind. Das Wesen der Natur aber ist die Form.»
Перевод: «Здесь Аристотель приходит к знаменитому и завершающему определению: Природа есть начало движения и покоя, поскольку оно принадлежит вещи внутренне, по сущности, а не лишь случайно… Материя называется "природой" лишь потому, что она может воспринять это начало, процессы становления – потому что они являются его проявлениями. Но сущность природы есть форма».
Комментарий: Швеглер выделяет три ключевых аспекта итогового определения: 1) природа как архэ (начало, принцип); 2) этот принцип имманентен самой вещи (внутренний, а не внешний, как у искусства); 3) он принадлежит вещи по сущности (каθ' αὑτὸ), а не случайно (κατὰ συμβεβηκός). Это отличает природные вещи от артефактов.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristotle: Fundamentals of the History of His Development»:
«This final definition synthesizes all the previous meanings into a hierarchical whole. Nature is not just the starting point (matter) or the process (growth), but the internal, essential, and teleological principle that governs both. It is the immanent cause of being and becoming.»
Перевод: «Это итоговое определение синтезирует все предыдущие значения в иерархическое целое. Природа – не просто исходный пункт (материя) или процесс (рост), но внутренний, сущностный и телеологический принцип, который управляет и тем, и другим. Это имманентная причина бытия и становления».
Комментарий: Йегер видит в этом пункте кульминацию всего диалектического движения главы. Аристотель не отбрасывает более ранние значения, но показывает их место в системе, подчинённое главному – форме как энтелехии.
Дэвид Росс (W. D. Ross), «Aristotle's Metaphysics: A Revised Text with Introduction and Commentary»:
«The phrase 'in virtue of itself' (καθ' αὑτὸ) is crucial. It distinguishes the natural from the artificial. A bed has no innate impulse to be a bed; its form is imposed from outside. A plant, however, has an innate impulse to grow and become itself. Its principle of change is within.»
Перевод: «Фраза "в силу себя самого" (καθ' αὑτὸ) является решающей. Она отличает природное от искусственного. Кровать не имеет врождённого стремления быть кроватью; её форма навязана извне. Растение же имеет врождённое стремление расти и становиться самим собой. Его принцип изменения находится внутри».
Комментарий: Росс обращает внимание на важнейший критерий, который позволяет отличить природный объект (φύσει ὄν) от созданного искусством (τέχνῃ ὄν). Это различие фундаментально для всей аристотелевской физики и метафизики.
А. Ф. Лосев в своих работах подчёркивает, что это определение имеет не только физический, но и глубокий метафизический смысл. «Внутреннее начало движения» – это не просто физический двигатель, но сама сущность вещи, её логос, который определяет весь путь её существования от потенции к энтелехии. Таким образом, природа оказывается тождественна бытийной силе вещи, её энергийной осуществлённости.
М. А. Солопова в статье «Понятие "природа" в античной философии» резюмирует: «Аристотель завершает V книгу "Метафизики" не просто перечислением значений, но их телеологическим упорядочиванием. Все значения "природы" – от материи до процесса роста – получают свой смысл и оправдание лишь по отношению к форме как внутренней цели и высшей реальности природной вещи. Это классический пример аристотелевского анализа, ведущего от многозначности термина к ясности философского понятия».
Глава 5. Многозначность понятия «Необходимое» (τὸ ἀναγκαῖον): от условий бытия к принуждению и логической неизбежности. [1015a20-1015b15]
[1-2] Необходимое как условие существования и достижения блага
Содержание: Первое и фундаментальное значение необходимого (τὸ ἀναγκαῖον) – это то, без чего нечто иное не может существовать или быть осуществленным. Например, дыхание и пища необходимы для жизни животного, так как без них его существование невозможно. Во втором, более широком смысле, необходимым называется то, без чего не может быть достигнуто некое благо или избегнуто зло. Так, лекарство необходимо для выздоровления (благо), а плавание на корабле может быть необходимо для уплаты долга (избегание зла, каковым является неуплата). Это «необходимое-условие» (condition sine qua non).
Διὸ πρῶτον μὲν τοιοῦτον λέγεται τὸ ἀναγκαῖον, οὗ ἄνευ οὐκ ἐνδέχεται ζῆν, οἷον ἀναπνοὴ καὶ τροφὴ τῷ ζῴῳ ἀναγκαῖα: οὐ γὰρ ἐνδέχεται ἄνευ τούτων εἶναι: καὶ ὅσα μὴ δυνατὸν ἄνευ τινὸς εἶναι ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ ἐκβαίνειν ἢ γενέσθαι, οἷον τὸ πιεῖν φάρμακον ἀναγκαῖον, ἵνα ὑγιαίνῃ, καὶ πλεῦσαι εἰς Αἴγιναν, ἵνα λάβῃ τὰ χρήματα.
[Комментарии]
Альберт Швеглер (Albert Schwegler): «Das Nothwendige ist zunächst das, ohne dessen Hinzuthuung ein Anderes nicht seyn oder nicht zu Stande kommen kann… Dieses Nothwendige ist also die Bedingung (conditio sine qua non) eines Andern». («Необходимое есть прежде всего то, без привнесения чего другое не может существовать или не может осуществиться… Это необходимое есть, таким образом, условие (condition sine qua non) другого»). Schwegler подчеркивает, что это значение устанавливает отношение зависимости одного от другого.
Владислав Татаркевич (Władysław Tatarkiewicz): В своей «Истории философии» он отмечает, что аристотелевское понятие необходимости как условия отражает телеологический характер его мышления: необходимо то, что служит цели (жизни, благу).
Алексей Фёдорович Лосев: В комментариях к «Метафизике» Лосев акцентирует, что здесь «необходимость понимается в самом широком смысле, как нечто, без чего невозможно ни бытие, ни благо… Это – необходимость относительная, а не абсолютная, необходимость для чего-то другого».
Дмитрий Владимирович Бугай: В своих работах Бугай обращает внимание на связь этого значения с аристотелевской концепцией гипоморфической сущности: для сложного существа (животного) необходимо то, что поддерживает его форму (душу) в материи (теле), – питание и дыхание.
[3-4] Необходимое как внешнее принуждение и насилие
Содержание: Третье значение необходимого – это принуждение (βία) и насилие. Оно обозначает некое действие или состояние, которое осуществляется вопреки внутреннему стремлению, склонности или собственному выбору (προαίρεσις) субъекта. Поскольку такая необходимость всегда действует извне и подавляет внутреннее движение сущего, Аристотель характеризует её как нечто «тягостное» (ἐπίπονον) и «болезненное», а также как нечто, заслуживающее порицания. Это «неnecessary-принуждение».
Ἔτι τὸ βίαιον καὶ ἡ βία: καὶ τοῦτο ἐπίπονον λέγεται καὶ ἀναγκαῖον, ὥσπερ καὶ Εὔπολις φησὶ "ἀναγκαζόμενον γὰρ τοῦτ' ἐπίπονον". καὶ ἡ βία ἀνάγκη τις, ὥσπερ καὶ Σοφοκλῆς φησι "βίᾳ δ' ἀναγκαζουσιν ἐλθεῖν τινά".
[Комментарии]
Альберт Швеглер (Albert Schwegler): «Die Nothwendigkeit erscheint hier als ein von aussen kommender Zwang, der dem innern Triebe und Streben des Dinges zuwider ist… Sie ist daher etwas Widriges, Lästiges, ein Uebel». («Необходимость предстает здесь как исходящее извне принуждение, противоречащее внутреннему побуждению и стремлению вещи… Поэтому она есть нечто враждебное, обременительное, зло»). Schwegler указывает на онтологический конфликт, лежащий в основе этого значения.
Томас Тейлор (Thomas Taylor): Английский неоплатоник и переводчик Аристотеля, комментируя это место, связывает это значение с человеческой душой, чьи естественные устремления могут быть подавлены внешней силой, что является источником страдания.
Алексей Фёдорович Лосев: Лосев видит здесь проявление аристотелевского дуализма: «Принуждение есть необходимость, идущая извне, в то время как собственное развитие вещи, ее энтелехия, идет изнутри. Поэтому принуждение всегда болезненно и противное природе».
Сергей Александрович Жебелёв: Российский филолог и историк, в своих работах отмечал, что Аристотель здесь фиксирует обыденное словоупотребление, где «приходится» и «вынужден» часто означают действие против воли.
[5-6] Ключевое определение: необходимое как невозможность иначе
Содержание: Здесь формулируется самое важное и первичное с логической и онтологической точек зрения значение: необходимое – это то, что не может быть иным (ὃ οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν). Все прочие значения так или иначе сводятся к этому. Условие (πρῶτον μὲν) называется необходимым, потому что без него результат не может быть иным (не может наступить). Принуждение также есть необходимость, поскольку под его воздействием субъект не может поступить иначе, вопреки своему желанию. Это определение задает абсолютный критерий необходимости.
Καὶ τὸ ἀναγκαῖον τοῦτο, οὗ ἄνευ οὐκ ἐνδέχεται ζῆν. Ἄλλο δέ, ὃ οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν ἀλλ' ἢ οὕτως, ἐξ οὗ συμβαίνει τὸ ἀναγκαῖον, καὶ ἁπλῶς ἤδη τὸ ἀναγκαῖον σημαίνει ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν.
[Комментарии]
Вернер Йегер (Werner Jaeger): «This is the definitive formulation which reduces all other meanings to a common denominator… It is the logical core of the concept». («Это окончательная формулировка, которая сводит все другие значения к общему знаменателю… Это логическое ядро концепта»). Jaeger подчеркивает, что Аристотель здесь совершает переход от описания к строгому определению.











