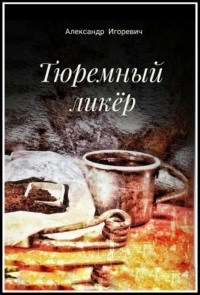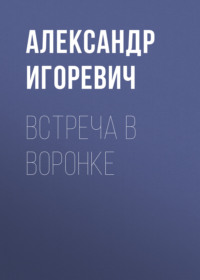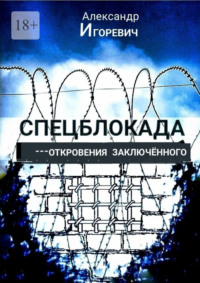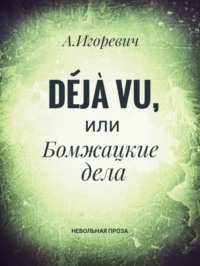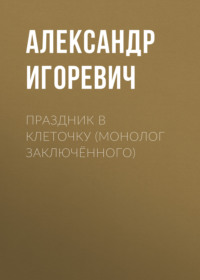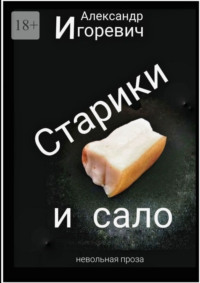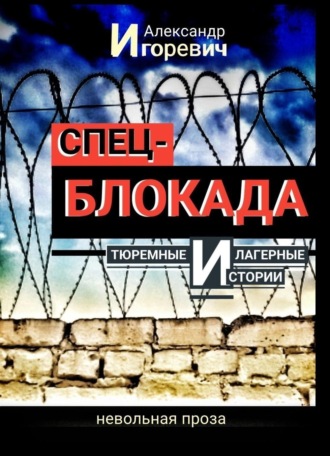
Полная версия
Тюремные и лагерные истории
Короче, свела меня судьба в тюрьме с одним занятным зэком. Мы с ним несколько раз попадали в один этап на ИВС и сидели там в одной камере. Самобытность его заключалась в том, что он в свои семьдесят лет провёл в местах лишения свободы без малого полвека! Был судим многократно и отбыл десять ходок со сроками от трёх до десяти лет, при этом все по одной и той же статье – за драки, в основном с поножовщиной, и, следовательно, нанесением тяжких телесных повреждений.
Вот такой самобытный старичок, хотя старичком его назвать язык не поворачивался. Он был высок, статен, сухощав, жилист и очень моложав. На зэка абсолютно не похож. Даже наколок не было ни единой. Все ходки, начиная с советских времён, проработал лагерным кузнецом. Звали его дядя Саня Рожков, а навес (прозвище) – Рожок. Сам себя он называл: “старый каторжанин”. Был глуховат, видимо из-за издержек лагерной профессии.
Сел он впервые в восемнадцать лет. И с тех пор, освобождаясь после очередной ходки, проводил на свободе редко, когда более двух месяцев, после чего садился опять. И всё, с его слов, за правду, из-за врождённой непримиримости к хамству и несправедливости. “Десятку” схлопотал, например, за избиение участкового, который беспричинно к нему придирался, язвил и грозился посадить. Вот и посадил…
На слова дядя Саня “Рожок” был скуп, но поразительно точен и лаконичен в суждениях и оценках происходящего. При этом охотно делился со мной, первоходом, всякими тюремными премудростями.
После водворения в хату он, постучав в кормушку – окошко на камерной двери, уведомлял сотрудника изолятора (ИВС):
– Начальник! Ругаться не будем? Нет? Дружно будем жить? Ага. Ну, ты знаешь – мне надо чифирнуть. Пока мы не чифирнём, никуда не пойдём, Ты скажи там, кому надо…
Говорил он вежливо, но твёрдо, непреклонно, без вариантов, давая понять, что следователи, прокуроры и судьи подождут, им, мол, спешить некуда. А нам – тем более. И принимался за приготовление своего напитка, возведённого им в некий культ.
Как любовно, умело, ловко и сноровисто творил он свой "ритуал" – только ради этого стоило посмотреть! Будучи впечатлён в своё время данным завораживающим зрелищем, я и завёл весь этот разговор. Это была песня!
Чай у него всегда был при себе, заготовлен с запасом и заранее расфасован по дозам («замуткам») в одинаковые аккуратные кулёчки из газетной бумаги. Лежали эти кулёчки ровными штабелями в полиэтиленовом пакете. Он бережно доставал один кулёк, и, пока я грел воду кипятильником в своей алюминиевой кружке, откупоривал его, не спеша, и ссыпал замутку в свой кругаль.
Когда вода закипала, дядя Саня заливал кипятком заварку и со словами:
– Пускай парится… – накрывал кружку тем же газетным листочком, что служил кульком, предварительно разгладив его своей крепкой ладонью.
Минут через семь он начинал килишевать чай, то есть переливать его из одной кружки в другую, раз пять, не больше. Ждал еще с минуту, пока все чаинки лягут на дно. Затем разливал чифир со мной напополам и, взяв со стола кубик рафинада, принимался чинно и очень культурно прихлёбывать, почти беззвучно, как бы выказывая своё уважение к "священному" тюремному напитку. Глядеть на него было одно удовольствие. Хотя, казалось бы, ну что в этом такого? И что я во всём этом такого нашел?
А то, что это, на мой взгляд, было не субкультурной девиацией, а действительно проявлением самой настоящей культуры. Всё поведение, все поступки, разговоры, даже манера пить чай были у старого зэка гораздо более цивилизованными, чем таковые у новоявленной “знати”, нуворишей из числа чиновников, политиков и псевдоинтеллигентов, с которыми мне приходилось общаться на воле.
Кстати, дядя Саня “Рожок” не выносил матерщины и укоризненно на меня посматривал, когда я нецензурно выражался.
Остаётся только вспоминать “железных леди” – руководительниц региональными и муниципальными органами управлений образования и культуры, поливавших трёхэтажным матом учителей и директоров школ, деятелей искусств и творческие коллективы…
У дяди Сани даже тот квадратик из старой газеты не был пренебрежительно растерзан и скомкан после употребления. Он сначала послужил тарой для чая, потом “крышечкой” для кружки, а затем, сложенный аккуратно в несколько раз оборачивался на ручку кругаля, чтобы не обжечь пальцы. В этом не просто сноровка старого уголовника – в этом уважение, почтение к самой жизни! Это проявление ничего иного, как высокой этики поведения и отношения к жизненным ценностям!
Суровые испытания и лишения, выпавшие на долю закоренелого каторжанина, научили его по-настоящему любить жизнь и ценить все её явления, как подарки судьбы.
К сожалению такие гуру, как дядя Саня “Рожок”, теперь большая редкость. Но это и закономерно.
Для одних тюремная романтика становится чужеродной, но увы, их кредо: “сладко поесть, долго поспать, день прошел и ладно”, то есть потребительская сущность, ничем не лучше, да ещё и заразительна для других.
А у многих она вообще пародийна и смехотворна: сопляк-малолетка пытается убедить, что он по жизни чифирной, чуть ли не с воли, и у него без чифира начинает дико болеть голова – наслушался историй, прогужевавшись пару-тройку месяцев в СИЗО…
Вот такие дела. Чифир на вкус терпок и горек, как и вся тюремная жизнь…
Стоп! А что же такое “тюремный ликёр”? Он же, ликёр-то, должен быть не горьким, а сладким! Значит, это не чифир? А что же?
Да есть такой напиток. Он делается на основе чифира и называется “конь”. Его принимают в узком кругу по значительным поводам: юбилей, семейное событие, освобождение и т.д. Вещь на самом деле сладкая, но для его любителей запас здоровья точно должен быть лошадиным.
Делают его так: в крепко заваренный чифир добавляют хорошую порцию растворимого кофе и сдабривают, тоже щедро, сгущёнкой. Получается вполне неплохой на вкус, без горечи и вяжущей оскомины, сладкий густой напиток, который якобы способен коня свалить с ног.
Не знаю, всё может быть. Но я лично сам принимал пару раз этот “тюремный ликёр” и ни малейшего удовольствия от него не получил. Наоборот, давило виски, казалось, вот-вот расколется голова, и в целом самочувствие чем-то напоминало состояние с похмелья, когда по молодому делу пил без разбору вино и водку, а догонялся пивом. А ведь тех “коней” готовили не профаны, но знатоки этого дела – рецидивисты. Короче, кроме сомнительной ностальгии по бурным временам далёкой юности – ничего путного. Видно, на него, "коня" этого, тоже, как и на чифир, предварительно надо подсесть, чтобы потом познать всё его "величие".
Ну, если уж речь зашла о бурной молодости, то, например, нынешние новоявленные адепты тюремной субцивилизации мажорят всяк по-своему, изобретая какие-то “энергетики” на основе кока-колы и кофе.
И вот, к завершению рассказа, я что-то крепко призадумался. Ведь, не смотря на кажущуюся консервативность, тюрьма чутко реагирует на все метаморфозы, происходящие в обществе. Они отражаются в ней, как в кривом зеркале.
Кто ведает, может быть, и эта чайная традиция в скором времени канет в прошлое, а коктейли из кока-колы придут на смену старому доброму дедовскому чифиру…
2013, 2024 г.г.
ПРАЗДНИК В КЛЕТОЧКУ
монолог заключённого
"Она [душа] плачет, – сказал Егор. – Нужен праздник"
(В.Шукшин "Калина красная")
"Будет и на нашей улице праздник"
(народная поговорка)
~1~
"Ожидание праздника лучше самого праздника" – авторство этой крылатой фразы молва приписывает Екатерине Великой. Всё может быть. Так это или как-то иначе, но в народе она прижилась, став поговоркой, которую люди повторяют порою походя – в дело и не в дело. А вот постичь её истинный, глубинный смысл способен далеко не каждый.
И это, скорее, хорошо. Потому что в полной мере понять такое дано по большей части тем, кто познал на себе утрату одной из главных жизненных ценностей – свободы. Проще говоря – тем, кто волей судьбы угодил за решётку…
Вообще, бывают ли праздники у тех, кто оказался за бортом корабля, именуемого государством и обществом? А если бывают, то как их отмечают? Что при этом говорят, думают, чувствуют? Как это вообще выглядит?
Речь не об официальных мероприятиях, приуроченных к каким-то государственным праздникам, а о тех днях и датах, дорогих сердцу, которые когда-то отмечали дома вместе с любимыми людьми…
Конечно, сама по себе эта тема для рядового, пошлого обывателя может показаться странной – он на неё отреагирует вполне ожидаемо: "Что? Какие ещё праздники уголовникам? Их дело – сидеть и страдать! Раз посадили, значит, за дело, у нас просто так не сажают…".
Да что обыватели? Благовоспитанные, образованные граждане точно так же могут рассудить. По себе знаю – чего уж греха таить?
Да и что обычные граждане? Я точно такие же слова однажды услышал из уст ни много, ни мало – судьи одного из районных судов, кстати, бывшей прокурорши.
Это было лет двенадцать тому назад. Помню, тогда отложили из-за новогодних праздников какое-то судебное заседание. Точнее, отложили его потому, что меня не доставили в суд из СИЗО. А уж что там у них не срослось: знать не знаю, как говорится, ведать не ведаю.
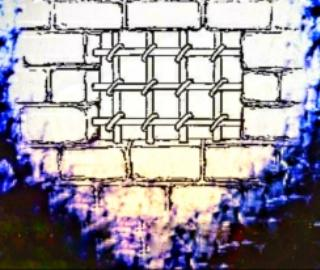
И вот, наконец, после праздников меня привезли в суд, как положено – на воронке. Ввели в зал судебных заседаний и заперли в клетке. Сижу, значит, с адвокатом общаюсь. Следователь тоже там с кем-то лясим-трясим.
Входит судья. Секретарь провозгласила по регламенту:
– Встать, суд идёт!
Вдруг эта почтенная дама, судья то есть, пристально посмотрев на меня, строго спросила, по какой-такой причине я не ознакомился с каким-то важным документом. Я почему-то растерялся и промямлил:
– А я, Ваша честь, не знаю. Меня никто не знакомил. Праздники же были… Новый год…
И тут она, судорожно перекосив лицо, истошно заорала:
– Какие ещё у вас там в тюрьме праздники? Вам что, заняться там больше нечем? Я с работы ушла в девять вечера под новый год! А вы… такие-сякие, немазанные-сухие…
И понесла, и понесла…
В зале все опешили. А я, наверное, больше всех. Поэтому ляпнул:
– Так ведь, это… следователь-то не пришёл. Как же я ознакомлюсь-то?
Зря я это сказал. Дама в черной мантии аж зашлась вся – пуще прежнего:
– У вас всегда следователи во всём виноваты! А вы все бедные-несчастные, белые-пушистые! Да вы…
И так далее.
Тут уж я и сам разозлился. Нет, ну в самом деле: в чём я-то виноват? Мне что ли решать: кого, когда, и по какому делу пускать в СИЗО, а кого не пускать? Разве у меня есть ключи от всех камер и коридоров, чтоб самостоятельно направиться искать тюремную канцелярию и ознакомиться там с какими-то неведомыми мне бумажками? Или во мне увидели экстрасенса? Да разве могу я определённо знать, что делается в головах у следователей и тюремного начальства? Они что – согласовывают со мной свои планы и намерения? Или никто иной, как я, распорядился ввести в стране двухнедельные новогодние каникулы? Да, вообще, разве моё мнение для кого-то что-то значит? Играет в этих делах какую-то роль? И, главное – кому всё это нужно, в конце-то концов? Мне?!
А я ведь ещё на тот момент осуждён не был. И, кстати сказать, в ту новогоднюю ночь, воленс-неволенс, в 22-00 согласно режиму лёг спать – на холодную тюремную шконку, полуголодный, с мрачной тоской по семье, по дому. А тут на тебе! Наорали ни за что, ни про что, закидали какими-то идиотскими предъяами! Как тут не разозлиться?
Ну, я и возмутился:
– Да. Представьте себе – я действительно невиновен. А меня держат в тюрьме! Какие у меня при этом могут быть праздники?! Вы что говорите? Сами подумайте!
Ругаться-то я с ней никак не собирался. Вообще в мыслях не держал. Женщина всё-таки. Пожилая, заслуженная. К тому же районная судья. Но терпежу не стало. Вот я и высказался, хотя, вроде бы, даже не нагрубил. А самого-то аж трясло! Только чую – адвокат меня за рукав дёргает: замолчи, мол, сядь, а то она никогда не уймётся.
И действительно. Я сел, замолчал. Все тоже сидят – ни гу-гу. Ну, а она, поистерив ещё пару минут, впрямь угомонилась. Заседание пошло своим положенным ходом. Лишь в самом конце после дежурной фразы: "Есть вопросы к суду?", она нервно проигнорировала моё заявление: "Да, Ваша честь, у меня есть вопрос" – просто взяла и, стукнув по столу кулачком вместо молотка, рявкнула: "Вопросов нет. Заседание окончено!".
Между прочим, когда я получил решение этого суда, то искренне изумился – оно было целиком в мою пользу… Да и рассматриваемый вопрос-то был плёвый – разногласия со следователем – и сути уголовного дела не касался. Так с чего же она так взбеленилась?
Может, из-за того, что ей пришлось, как ни крути, принять сторону арестованного, а не следствия – у нас это не ахти, как любят. Тем более, что ей, бывшей прокурорше, куда привычнее обвинять, чем защищать.
Ещё вполне может быть, что её раздосадовала оплошность следователя, а я просто подвернулся под горячую руку – она увидела во мне виновника этого неприятного для неё прецедента.
Не исключено также, что следователь, например, является её дальним родственником – у нас такое тоже далеко не редкость. Или, скажем, сыном (внуком, правнуком, племянником) её хороших знакомых. А тут пришлось его наказать – тоже ничего приятного.
Как знать, быть может у неё дома что-то случилось. Или, наоборот, много лет ничего такого не случалось – вот она и вскинулась.
Этого я не знаю. Но с того самого времени так и засело во мне, как заноза, желание разобраться, есть ли он вообще у арестанта – праздник…
~2~
В этой связи на память приходит эпизод из романа А.И. Солженицына "В круге первом": как в сталинской шарашке бывшие иностранные шпионы отмечали католическое Рождество – тихо-мирно, почти без слов, с ломтиками хлеба, политыми сахарным сиропом (вместо торта). Наши "враги народа" от "шпионов-иностранцев" там тоже особо не отставали – нет-нет, да и норовили что-нибудь отметить… Вот только ничего праздничного я там так и не разглядел.
Что касается личных наблюдений, то… Впрочем, судите сами.
Итак, как же встречают и проводят в тюрьмах да лагерях те или иные праздники?
Однозначно на этот вопрос не ответить.
Случается, что люди здесь вовсе забывают про собственные именины – бывает и такое…
Многие просто никак не отмечают: бродят понуро весь день, а по отбою ложатся спать. И никто не догадается, что у человека день рождения, если случайно не взглянет на прикроватную бирку – табличку с личными данными на шконке5. Или какой-нибудь активист не повесит на доске объявлений бумажку с каракулями, что-то вроде: "Дни рождений в таком-то месяце" и списком именинников. Но это опять же, если кто-то заметит. Ну, хорошо, положим – заметили. Дальше что? А дальше – ничего. То же самое. Поздравят: кто сердечно, кто коряво, кто как умеет, и… Короче, как говорится – проехали и забыли.
Иные же постараются какой-никакой стол организовать, чифир заварят, гостей позовут. Последние, ради приличия, попытаются изобразить веселье. Но надолго их тоже не хватит: лыбу подавят натужно минут десять-пятнадцать, чифир выпьют, приколюхи схавают и свалят6. Какой же это праздник?
Да и, честно говоря, обычно складывается впечатление, что гости эти приходят даже не поздравить, а пожалеть что ли, поддержать, посочувствовать. Как ни старайся, а этого не спрятать: всё читается в глазах, так или иначе проявляется в словах. Это, разумеется, совсем не то. Не праздник…
А вот в самом процессе подготовки, например, к новому году или дню рождения, что-то такое есть! И подобие праздничного настроения, иногда с налётом веселья, и затаённая надежда – некое предвкушение или, скажем так, предвосхищение если не чуда, то уж, по крайней мере, какой-то перемены к лучшему. Наступает оживление, суета: обдумывают, где, с кем и как отмечать, припасают продукты для праздничного стола. Но вот наступает долгожданный день, и… куда всё подевалось? Стихают, поникают и прячутся по углам.
Поистине – праздник растворился в его ожидании без остатка. Выходит, ожидание – это и есть арестантский праздник?
Ждали-ждали нового года, а накануне новогодней ночи разбрелись, кто куда, в тишине. Самые неунывающие, да и те молча поели-попили повкуснее, чем обычно, туда-сюда, телевизор посмотрели, родных по телефону поздравили – и спать в 22-00, как положено по режиму. Вот и всё…
Бывает, что тюремное или лагерное начальство разрешит новый год встретить, посидеть до часу ночи. Иногда и телевизор на ночь не отключают. Но всё равно: большинство по отбою уже на шконках, а остальные с унылыми и мрачными лицами дожидаются, а там под бой курантов – кто лимонад, кто колу, а кто просто чай, и… по шконарям…
Понятное дело: в отрыве от дома и семьи, со сроками по десять, пятнадцать, двадцать лет, да, например, на строгом режиме… Действительно, какое у зэка может быть праздничное настроение?
Спору нет, уголовное наказание, особенно, если оно назначено обоснованно и по закону, кое-кто, конечно, справедливо заслужил – сам виноват. Вот та старенькая судья-прокурорша тоже об этом толковала.
Но когда начинают одолевать подобные мысли, противоречия и сомнения, когда чувство непримиримости и осуждения берёт верх над милосердием, полезно полистать печальные страницы истории: вспомнить о временах, когда чесали под одну гребёнку и правых, и виноватых. Неужели эти уроки не пошли впрок, неужели ничего не осталось в людской памяти хотя бы от ужасов красного террора или сталинских чисток?
А мало ли поучительных примеров в литературе? Взять хотя бы классику. Достаточно лишь вспоминить один маленький эпизод из книги Власа Дорошевича "Каторга. Преступники" о пожилом каторжанине – бывшем дворянине, совершившем в юности убийство и проведшем десятилетия на каторге. В разговоре с автором он в сердцах выплеснул накопившуюся горечь: "Наказывайте человека как хотите, но когда-нибудь конец этому должен же быть. Оттерпел человек всё, что ему приходится, и покончите с этим… Неужели взрослый, пожилой мужчина должен терпеть за то, что сделал когда-то мальчишка?".
Действительно, жизнь арестанта поделена на три части: до, во время и после. Прошлая жизнь, текущее существование и призрачное будущее. И, как правило, это жизнь трёх разных людей…
Размышляя над этим, полезно помнить народную поговорку о том, что от сумы да тюрьмы не зарекаются. Подавляющее большинство арестантов думать-не думали и предположить не могли, что вольно или невольно преступят черту закона, после чего окажутся за решёткой! Это были самые обычные люди, ничем не отличавшиеся от окружающих, от тех, кто сейчас на свободе… Так надо ли теперь клеймить их всю оставшуюся жизнь, лишая простых человеческих радостей?
Впрочем, речь сейчас не о социальной справедливости, не о возмездии, не об искупительных жертвах. Был лишь простой вопрос: "Есть ли праздник у арестанта?", и утвердительного ответа на него пока нет.
Что же, в самом деле, неужели совсем не бывает у зэка никаких радостных событий?
Бывает!
~3~
Бывает. Взять хотя бы так называемую роспись. То бишь – бракосочетание.
А что? Чем не радостное событие? Жених-зэк спозаранку бегает по зоне – задница "в мыле", бледный, взъерошенный. И нервный аж до тряски: то начальства в зоне нет – заявление некому подписать, то разрешение на что-то не дают, то родственники справку какую-то дома забыли, то представитель ЗАГСа задерживается. А то все в сборе, только его некому препроводить – все сотрудники заняты, а потом у всех обед, а потом…
Жениху искупаться бы, погладиться, почиститься, а тут…
Это всё не страшно. Ведь на воле точно такие же хлопоты – обычное дело. В конце концов, всё само собой улаживается, и новобрачного уводят на церемонию заключения брака.
Несмотря на торжественное звучание, тут это всего лишь скромная процедура, правда, в относительно уютной обстановке, в присутствии, помимо самих брачующихся, служащей ЗАГСа да сотрудника в синем камуфляже, ещё и одного-двух близких родственников, а также, если разрешат, фотографа из числа осуждённых. Обмен кольцами, обмен поцелуями, фото на память и всё такое – если не напыщенное, то, надо признать, довольно трогательное, памятное действо…
После росписи, поздравлений и недолгого воркования, "голубков" разводят. Только не в гражданско-правовом смысле, а чисто физическом – кого куда. Жениха, то есть теперь уже молодого мужа, сопровождает обратно в зону всё тот же сотрудник в синей пятнистой форме. А шмыгающую носом, с размазанной тушью на лице молодую жену – наоборот, за зону, вместе с кольцами, родственниками и свидетельством о браке…
Словом, если это праздник, то весьма специфического свойства, как говорится – на любителя.
Другое дело, если эта самая роспись совпадает по дате с положенным длительным свиданием. Вот тогда зэка ожидает подобие свадебного столаэ с новоиспеченной супругой, первая брачная ночь, да и вообще – трое суток полуволи: в благоустроенный комнатке, в любимой домашней одежде, привезённой родными, по собственному режиму со своим распорядком дня. А самое главное – в кругу самых любимых, родных и близких людей7. Тех, для кого он тоже самый дорогой на свете человек!
Не возразить – атмосфера, безусловно, праздничная. Хотя её тоже непременно отравит довлеющее осознание стремительной скротечности времени: не успеют оглянуться, как трое суток пролетят, и свидание закончится. Придётся зэку понуро тащиться в опостылевший барак, а родным – ехать обратно, в слезах, домой. Но без него для них дом будет пуст и так же постыл…
Вобщем, компенсация за радость неизбежна – горечь расставания обнулит всё настроение, полученное от этого праздника. А это уже не то. Опять не то…
~4~
Не надо слёз, не надо грусти,
Настанет день, и нас отпустят!
И будем помнить целый век
Тюремный суп и чёрный хлеб…
Будут ещё у зэка такие праздники. И ещё. И ещё. Лишь бы родным хватило сил и здоровья нести это нелёгкое бремя. Очень нелёгкое, очень непростое…
Пройдёт время. Рано или поздно наступит настоящий праздник: самый заветный для зэка, долгожданный, подлинно радостный для его семьи! Как говорится, хэппи энд…
Но речь сейчас опять не об этом – в тот день и зэк будет уже не зэк, а вольный человек. Стало быть, это тема уже другого рассказа, а пока…
Пока пожелание скорейшего освобождения – всего лишь тост, поздравление друг друга по любому поводу, нечто вроде обязательного атрибута.
~5~
В прежней вольной жизни мало кто из обитателей лагерей и тюрем отличался особой набожностью. Несвобода, однако, многих привела в храмы, мечети, молельные комнаты – претерпев утраты, скорби, лишения они находят утешение и отраду в вере. Дай им Бог!
Традиционные религиозные праздники, давно ставшие общенародными, отмечают и в местах лишения свободы. В зависимости от наличия тех или иных конфессий Рождество Христово, Пасха, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и, конечно, Масленница празднуются организованно, более-менее массово, можно сказать – на официальных началах. Инициатива же исходит когда снизу, когда сверху, а бывает встречной – и оттуда, и отсюда.
В любом случае организация ложится на плечи осуждённых из числа верующих, активно участвующих в деятельности религиозных общин. Они от души стараются придать праздникам широту, стараются попотчевать окружающих традиционными угощениями.
Это замечательно (в тюрьме-то), но… Увы, не доводилось видеть мне в такие дни по-настоящему радостных и счастливых лиц даже у самых ярых и фанатичных ревнителей веры…
Кстати, лагерное начальство в такие дни тоже в сторонке не остаётся: в столовой помимо баланды8 выдают ещё какие-нибудь приколюхи.
На Пасху, например – традиционное крашеное яичко, куличик. Тут уж, как говорится – не до жиру, всё по возможности. Иной раз на всех не хватает, так вместо целого куличика дают половинку, а случалось – четвертинку… Радуйтесь, мол, и этому малому, а то в следующий раз вообще ничего не получите, не положняк9, чай…
Зэка ничем не удивить. Ещё совсем недавно – несколько лет назад – у нас вместо куличей давали такие булочки-небулочки, колобки-неколобки из хлебного теста, обмазанные сверху мочёным сахаром. При воспоминании об этих кулинарных "творениях" неизменно возникает ассоциация с "шарашкиным застольем" из того же солженицынского романа о событиях без малого вековой давности…
На мусульманские праздники на столах – неизменный плов. Правда, порции такие, что на куске хлеба уместится.
Масленницу встречают традиционно блинами! Но увы, казусы и тут случаются: то кому-то не достанется, то вместо целого блина преподнесут половинку… Четверть блина на моей памяти пока не вручали, но, как говорится, лиха беда начало! Пипл схавает…