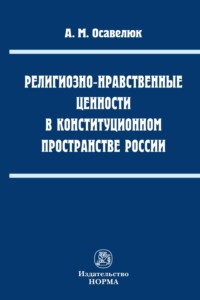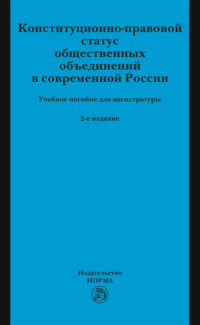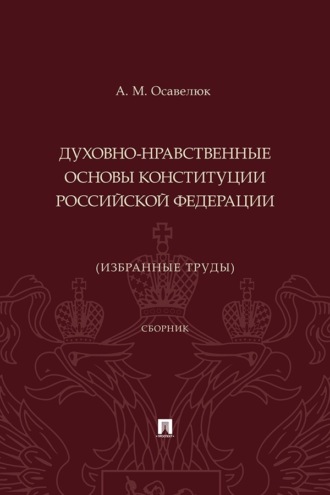
Полная версия
Духовно-нравственные основы Конституции Российской Федерации (избранные труды)
Закон о должности Президента государства Израиль от 3 декабря 1951 г., а также Временный закон о Втором собрании государства Израиль от 4 апреля 1951 г. в самых общих чертах регулируют некоторые вопросы деятельности этих органов.
Рассмотрим основные акты, составляющие Конституцию Новой Зеландии. Акт о даровании представительной Конституции Новозеландской колонии 1852 г. регулирует некоторые вопросы деятельности парламента. Избирательный закон 1927 г. (Акт, консолидирующий некоторые законодательные акты Генеральной ассамблеи в отношении народного представительства в Палате представителей от 11 ноября 1927 г.) регулирует подготовку и порядок проведения парламентских выборов. Акт о принятии Вестминстерского статута 1931 г. устанавливает законодательную самостоятельность новозеландского парламента и взаимоотношение законов Великобритании и Новой Зеландии, Актом об упразднении Законодательного Совета 1951 г. была упразднена верхняя палата парламента.
Таким образом, во всех указанных государствах, имеющих неписаную конституцию, составляющие ее акты (каждый сам по себе) регулируют только отдельные стороны тех или иных конституционно-правовых институтов, взятых в индивидуальном качестве, изолированно от других институтов.
В государствах с писаной конституцией законы, составляющие ее, имеют сложную структуру и комплексное содержание. Они, как правило, имеют форму «пакета» (то есть более или менее подробно регулируют несколько взаимосвязанных институтов), или же регулируют какой-то один институт, но не фрагментарно и «однобоко», как например, рассмотренные нами выше Акты о парламенте 1911 и 1949 гг. в Великобритании, а более полно, многосторонне.
Например, в Канаде Конституционный Акт 1867 г. закрепляет форму государственного устройства, форму правления, компетенцию и взаимоотношения высших органов государственной власти и другие вопросы[26].
Форму «пакета» имеют также законы, составляющие писаные конституции Швеции и Финляндии. Конституцию Швеции составляют четыре акта: Форма правления 1974 г., Акт о престолонаследии 1810 г., Акт о свободе печати 1974 г. и Основной закон о свободе высказываний 1991 г.[27] Форма правления 1974 г. (состоит из 13 глав) закрепляет основы государственного строя, порядок образования и деятельность высших органов власти, основные права и свободы, осуществление правосудия и т. д. Акт о печати 1974 г. имеет 14 глав: о свободе печати, о публичном характере официальных документов, о преступлениях против свободы печати, о судопроизводстве по делам о свободе печати и другие. То есть, определяя порядок получения документов, устанавливая перечень тех из них, которые не могут быть предоставлены, а также предусматривая ответственность за «злоупотребление свободой печати», существенно дополняет раздел о правах и свободах граждан. Другими словами, большинство актов, составляющих писаные конституции, включающие несколько законов, принятых в разное время, являются как бы мини конституциями, «незавершенными» конституциями.
Таким образом, неписаной конституция является не потому, что она состоит из большого количества актов, принятых в разное время, и не потому, что их никто официально не провозглашал в качестве основного закона, и не потому что она состоит из писаной и неписаной частей. Неписаной она является потому, что представляет собой совокупность несистематизированных актов (законов), изданных в разные исторические периоды и закрепляющих (в совокупности) основы государственного права данной страны. При этом каждый из составляющих ее законов фрагментарно регулирует какой-то один институт.
Писаная конституция – это один или несколько актов, принятых в разное время и имеющих форму «пакета», то есть регулируют несколько взаимосвязанных институтов.
Подобное определение понятия формы конституции имеет ряд преимуществ. Оно позволяет отличать не только писаную конституцию, состоящую из одного акта (как в США, Франции, ФРГ и др.) от неписаной, но и отличать писаную конституцию, состоящую из нескольких актов (Канада, Швеция, Финляндия и др.) от неписаной.
С таким определением нет надобности вводить в научный оборот новое понятие «смешаная конституция» не только для писаных конституций (например, для Канады), но и для конституции Великобритании, которая уже более двух веков считается неписаной.
Для предлагаемого нами определения обычаи и судебные прецеденты не являются помехой и не надо ломать голову над вопросом о том, что же с ними делать. Даже вступление Великобритании в Общий рынок, принятие закона о референдуме и т. п. гармонично «вписываются в предлагаемое нами определение формы конституции, поскольку они не нарушают общей картины и входят в английскую неписаную конституцию в качестве очередных «кирпичиков», хотя и с несколько специфическими особенностями.
И, наконец, самое главное, наше определение позволят более точно и верно отнести конкретную конституцию к той форме, которой она больше всего соответствует.
Внутреннее проявление формы конституции имеет еще один аспект. Если конституция представляет собой единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы конституционного характера, то ее можно определить как кодифицированную. Если те же вопросы регулируются несколькими писаными актами, то мы имеем дело с некодифицированной (несистематизированной) конституцией. Кодифицированные конституции в зависимости от степени кодификации можно подразделить на развернутые и неразвернутые, хотя необходимо признать, что границы такого деления весьма расплывчаты. Примеры развернутых конституций дают греческая, португальская, неразвернутых – действующая французская Конституция 1958 г., американская Конституция 1787 г., Конституция Индонезии 1945 г.
Кодифицированные конституции нередко содержат нормы, которые в других странах включены в текущее или органическое законодательство. В настоящее время нередки акты, в которых число положений, не свойственных конституциям, весьма значительно. Например, ст. 27 о собственности и ст. 107 о судебной процедуре в Конституции Мексики по объему содержания (12 и 9 страниц текста – соответственно) могли бы составить отдельные законодательные акты. Также и шестое приложение к Конституции Индии, регулирующее управление территориями расселения племен в штатах Ассам, Мегхалайя и Трипура и союзной территории Мизорам, вполне могло бы составить отдельный закон. Конституции Мексики, Индии, Малайзии разительно контрастируют в этом отношении с основными законами США, Японии, в которых – создается такое впечатление, – нет ничего лишнего с конституционной точки зрения.
Как мы уже отмечали, на содержание конституции определенное влияние оказывает форма ее принятия. Двухсотлетняя история конституционализма выработала несколько способов принятия конституций. Общая тенденция в этом процессе – постепенная демократизация, постоянно возрастающее вовлечение избирательного корпуса.
Наименее демократическое принятие – октроирование (от франц. octroyer – жаловать, даровать), то есть дарование конституции односторонним актом главы государства (монарха). Такие конституции в начале прошлого века часто именовались хартиями. Такова, например, Хартия 1814 г., которую Людовик XVIII предоставил на основе собственной власти французскому народу: «Мы добровольно и в силу свободного осуществления нашей королевской власти даровали и даруем, уступили и пожаловали нашим подданным, как за себя, так и за наших преемников навсегда нижеследующую конституционную Хартию…». Октроированными были конституции Марокко 1911 г., Японии 1889 г., Абиссинии 1937 г. Монархи октроировали конституции, конечно, не по доброй воле, а опасаясь потери трона. Впрочем, можно встретить конституцию, октроированную не столь уж давно, например, Конституцию Княжества Монако 1962 г. В ее Преамбуле говорится: «Мы (т. е. Князь Ренье III. —Авт.) решили даровать государству новую конституцию, которая по нашему высочайшему желанию будет отныне рассматриваться как Основной закон Государства…»
Октроированный характер конституции внешне выражается в соответствующей, – как правило, весьма краткой – формуле, обычно помещаемой в преамбуле и указывающей на источник происхождения конституционного акта, как было показано в приведенных выше цитатах.
Возросшая роль граждан в политической жизни привела к тому, что большинство ныне действующих конституций являются народными, как их называли в XIX в. Источником такой конституции является избирательный корпус, который выбирает парламент или учредительное собрание, либо непосредственно одобряет конституцию на референдуме.
Чаще всего конституция вырабатывается учредительным собранием – выборным органом, который имеет главной или единственной целью создание конституции и иногда временно также выполняет задачи парламента. Обычно учредительное собрание распускается после выполнения своей задачи и поэтому может быть признано национальным представительством особого рода. Известны, впрочем, случаи, когда учредительное собрание после принятия конституции преобразовывалось в обычный парламент, как было, например, в Греции в 1975 г. Учредительные собрания вырабатывали конституции во Франции, Италии, Югославии в 1945–1947 гг. в Португалии в 1975–1976 гг., в Болгарии и Румынии в 1990–1991 гг. и во многих других странах. Обычно такие конституции наиболее демократические.
Разновидностью народных конституций являются конституции, принятые референдумом. Были проведены референдумы по двум конституционным проектам во Французской Четвертой республике в 1946 г. (первый проект избиратели отклонили), референдумами были утверждены выработанные учредительными собраниями или парламентами конституции Италии 1947 г., Португалии 1976 г., Испании 1978 г., Румынии 1991 г., Швейцарии 1999 г. и др.
Как правило, содержание октроированных конституций носит неразвернутый характер, отличается весьма лаконичными формулировками. Содержание народных конституций во многом определяется способом ее принятия. Наиболее детально расписано и согласовано содержание конституций, принятых учредительными собраниями. Так, Конституция Индии 1950 г. состоит из преамбулы, 458 действующих статей, объединенных в 24 части, и 12 приложений. Ряд частей конституции делится на главы. Достаточно детально урегулированы отношения Конституцией Италии 1947 г., которая также была принята учредительным собранием. Подобная детализация конституций, принятых учредительными собраниями, вполне объяснима, так как учредительные собрания избираются для строго определенной цели, работают в течение относительно продолжительного времени и имеют возможность опираться на помощь квалифицированных специалистов.
Конституции, принимаемые референдумом или октроированные, не отличаются, как правило, излишней детализацией содержания. Поскольку в ходе предварительного обсуждения текста Конституции, выносимого на референдум, (как правило, в течение месяца) с ним знакомятся в подавляющей массе избиратели мало знакомые с юридическими текстами и тонкостями государственного управления, то их содержание формулируется лаконично. Лаконичность октроированных конституций вызвана, главным образом, тем обстоятельством, что это первый конституционный опыт в государстве.
Способы реализации конституции. Соотношение формы конституции и способа реализации ее положений – это не такой праздный вопрос, как может показаться на первый взгляд. Четкое определение понятия формы, а затем правильное соотнесение конкретной конституции к соответствующей форме – далеко от бесплодного теоретизирования. Поскольку речь идет, прежде всего, о способах приспособления конкретной конституции к нуждам конкретной ситуации в конкретный период существования данного государства и методах возможного противодействия этому приспособлению.
Например, кажущаяся на первый взгляд противоречивость и бессмысленность британской конституции не может рассматриваться как забавный анахронизм. Скорее всего, в этом имеются свои преимущества, удобные для субъектов конституционно-правовых отношений Великобритании и других стран с неписаной конституцией. «Эта конституция весьма гибка, удобна в практическом смысле, – писал А. А. Мишин. – В отличие от своих писаных собратьев она не нуждается в сложной процедуре принятия дополнений и изменений»[28]. Приведенные слова справедливы для писаной части этой конституции, когда речь идет о составляющих ее актах.
Когда речь идет об изменениях в неписаных конституциях, это достигается путем принятия обычного закона. Каждый последующий закон, содержащий конституционные нормы, изменяет либо замещает предыдущий или устанавливает положения, ранее не регулировавшиеся либо регулировавшиеся обычным правом. Принятие последующего закона производится в том же порядке, что и предыдущего. Действительно, принять очередной закон неписаной конституции, заручившись поддержкой абсолютного большинства присутствующих депутатов парламента, гораздо проще, чем «пробиваться» через законодательные препоны писаных конституций. Представляется, что чем более высокий барьер установлен для внесения поправок в текст писаной конституции, тем труднее его преодолеть и тем более пристальное внимание широкой общественности привлекает к себе этот процесс. В подобных ситуациях не исключается появление искусственно поднимаемой шумихи и политической возни.
Приведем несколько примеров, свидетельствующих о том, какие возможны варианты усложнения процесса принятия поправок в писаные конституции. Так, в США для принятия поправки к конституции требуется одобрение ее двумя третями членов обеих палат Конгресса (парламента) и последующая ратификация (одобрение) законодательными собраниями трех четвертей штатов (ст. V Конституции)[29].
Не менее жесткую формулу пересмотра конституции закрепляет ст. 89 Конституции Франции: «Инициатива пересмотра Конституции принадлежит Президенту Республики, действующему по предложению Премьер-министра, и членам Парламента. Проект или предложение о пересмотре Конституции должны быть приняты обеими палатами в идентичной редакции. Пересмотр является окончательным после одобрения его референдумом. Однако проект пересмотра не передается на референдум, если Президент Республики решит передать его на рассмотрение Парламента, созванного в качестве Конгресса; в этом случае проект пересмотра считается одобренным, если он получает большинство в три пятых поданных голосов. В качестве бюро Конгресса выступает бюро Национального собрания. Никакая процедура пересмотра Конституции не может быть начата или продолжена при наличии посягательств на целостность территории.
Республиканская форма правления не может быть предметом пересмотра»[30].
Встречаются и более жесткие требования в отношении изменения конституционных положений конституций. Так, ст. 41 Конституционного Акта 1982 г. Канады устанавливает, что «любое изменение Конституции Канады совершается путем издания Прокламации Генерал-губернатором с приложением большой печати Канады только путем принятия резолюции Сенатом, Палатой общин и законодательными собраниями каждой провинции по следующим вопросам:
а) функции Королевы, Генерал-губернатора и лейтенант-губернатора какой-либо провинции;
б) право провинции иметь в Палате общин число депутатов не менее численности сенаторов, которыми провинция правомочна быть представлена при вступлении в силу настоящей части;
в) с соблюдением положений ст. 43 использование английского и французского языков;
г) состав Верховного суда Канады; и
д) внесение изменений в настоящую часть»[31].
Вопросы, связанные с принятием или изменением конституций, законодательства о выборах, правах и свободах граждан привлекали, и будут привлекать пристальное внимание широкой общественности, средств массовой информации, общественных объединений и т. д. Подобное отношение общества способствует более широкому обсуждению и учету различных позиций и точек зрения, более точному формулированию текста конституционных положений. Иногда слишком высокая активность отдельных слоев общества, наоборот, мешают адекватному отражению в конституциях реалий общественной жизни. В этих ситуациях спокойная обстановка более приемлема.
Более удобны и способы неформального изменения, осуществляемого с помощью обычаев и судебных прецедентов, получивших особо широкое распространение в странах с неписаной формой конституции. Особенно это касается конституционного обычая, который представляет собой правило поведения, сложившееся в результате длительного и многократного повторения. По сравнению с другими способами он дает то преимущество, что находится главным образом в руках самих участников правоотношений, может применяться более незаметно, не привлекая особого внимания широкой общественности. Поскольку он является как бы укоренившейся привычкой, то резкие изменения здесь не так часто встречаются.
Судебный прецедент также, как правило, не привлекает к себе пристального внимания широких слоев общественности, так как в судебном заседании, кроме участвующих в деле сторон, обычно присутствует не так много публики. В отличие от парламентариев, судьи обычно связаны предыдущими решениями по аналогичному делу. Многие это понимают и это служит одной из причин того, почему судебные процессы обычно не вызывают широкого внимания общественности. Указанная причина объясняет также, почему от судей, в отличие от депутатов, не ожидают «революционных» или кардинальных решений.
В государствах с писаной конституцией к таким способам изменения относится конституционный контроль, судебные прецеденты. Они не всегда бывают удобны для оперативного и справедливого разрешения правовой коллизии, т. к. зачастую требуют длительного и пристального предварительного исследования проблемы, изучения решений, вынесенных по аналогичному делу много десятилетий тому назад. Но такая кропотливая и порой «неспешная» работа не привлекает внимание широкой общественности.
Таким образом, внешняя форма выражения конституции во многом влияет на внутреннюю ее форму, т. е. на содержание. В зависимости от того, каково содержание конституции, таковы особенности ее реализации. В одних случаях при реализации основной упор делается на писаный текст конституции (особенно, если она имеет прямое действие), а в других – предпочтение будет отдаваться прецеденту и обычному праву.
2. Конституция Российской империи: понятие и сущность[32]
Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
Ст. 671 Конституции РФВ настоящее время активно обсуждаются положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в том числе и вопросы сохранения преемственности опыта, накопленного тысячелетней историей, памяти предков, передавших нам свои идеалы и веру, единое государство. Хотелось бы и мне высказать некоторые мысли по этому вопросу.
Из прочтения многочисленных научных публикаций на эту тему создается впечатление, что тысячелетняя история Отечества чудесным образом «вместилась» в события последних десятилетий. Как будто не было ни тысячелетней предшествующей истории государства, и конституция у него якобы появилась только в 1905 г.[33], да и то под «натиском» великих «революционеров», которые во многом на японские деньги в 1905–1907 гг. под видом первой революции убивали своих же соотечественников[34]!
Но это тысячелетие было! Было и славное государство, по которому мы, потеряв его, даже не плачем. Раз было государство, то и конституция у него тоже была[35]. Мы не случайно обратили внимание на конституцию. Поскольку именно она, ее содержание, а тем более сущность конституции в максимальной степени концентрируют в себе фундамент, основу юридической материи любого государства.
Известно, что все конституции по форме выражения своего содержания делятся на два вида: писаные и неписаные[36]. Поскольку определение неписаных конституций широко известно, а анализ конституционных актов Российской империи показывает, что она имела неписаную по форме конституцию с определением понятия которой до сих пор высказываются разные мнения, мы предложим свое определение этого понятия.
Неписаная конституция – совокупность несистематизированных актов (законов), изданных в различные исторические периоды и закрепляющих в совокупности основы государственного права данной страны. При этом каждый из составляющих ее конституционных законов фрагментарно регулирует какую-то отдельную часть конституционного института[37]. Примерами таких актов являются Закон о престолонаследии 1797 г., Учреждение об императорской фамилии 1797 г.[38]
Достоинство неписаных конституций состоит в том, что конституционные законы, принимаемые по мере назревания тех или иных отдельных вопросов, позволяют плавно и без особой суеты регулировать все насущные проблемы. Поскольку регулируются только отдельные назревшие вопросы по мере их проявления, то это не создает особого волнения и напряжения в обществе.
Еще одним достоинством таких конституций является то, что поскольку конституционные акты принимаются от случая к случаю, а жизнь постоянно меняется и требует упорядочения (регулирования), то такое регулирование чаще всего осуществляется конституционными обычаями и прецедентами. И то, и другое, в отличие от принятия законов происходит без лишнего привлечения внимания и спокойно.
Наконец, главное, как правило, в государствах с неписаной конституцией конституционные законы не возвышаются по юридической силе над остальными законами. У разных государств (Великобритания, Израиль, Новая Зеландия) свои причины этого явления. В Российской империи это было вызвано тем обстоятельством, что над всем законодательством возвышалась Кормчая книга (Книга правил). Она включала Правила святых Апостолов, Правила Вселенских и поместных соборов и др. Все законодательство государства должно было им соответствовать.
Это означало, что Конституция и все законодательство Российской империи были пронизаны не только нормами права, но и нормами нравственности, содержащимися в Кормчей книге. Как писали по этому поводу дореволюционные юристы, при таком содержании правовой системы юридические права и свободы, закрепленные в законодательстве, воспринимались как нравственная обязанность каждого.
В то же время писаные конституции, как правило, кодифицированные требуют комплексного правового регулирования по многим назревшим проблемам, что требует дополнительной затраты времени, в обществе создается напряжение, которым могут воспользоваться недобросовестные элементы.
Помимо формы и содержания любая конституция имеет свою сущность. Поскольку конституции являются юридическими актами, регулирующими социальные отношения, то они имеют два вида сущности: юридическую и социальную. О юридической сущности неписаных конституций мы уже упоминали: как юридический документ они не возвышаются над текущим законодательством[39].
Юридическая наука свидетельствует, что социальных сущностей у конституций также две: одни конституции выражают волю народа (иногда о таком виде сущности конституции пишут, что она представляет собой своеобразный общественный договор), другие конституции – волю господствовавшего класса.
Внешним выражением первого вида конституций является принятие важнейших нормативных актов, государственных решений с участием представителей всех свободных сословий (например, Земские соборы перестали созываться только при Петре I); построение государственной власти на основе принципа разделения властей, который дает возможность разным интересам разных слоев населения, представленным в разных ветвях государственной власти, искать компромисс (например, в процессе выработки и принятия законов)[40]; относительно справедливые экономические отношения[41].
Для конституций с другим видом социальной сущности характерно провозглашение воли господствующего класса и юридическое ее обеспечение положениями самой конституции. Например, закреплением в конституции принципов единства власти, демократического централизма, государственной идеологии, а также многостепенных и безальтернативных выборов, поражением политических прав и др.[42]
В советский период принято было писать, что в Российской империи конституция появилась только в 1905 г. и выражала волю господствующего класса – буржуазии. Да и в 1905 г. эту конституцию «революционный» пролетариат якобы «вырвал» у правящего класса.
Такой же уступкой, правда, «бунтующему» крепостному крестьянству подавался Манифест от 19 февраля 1861 г. об отмене крепостной зависимости. В. И. Ленин (а вслед за ним очень и очень многие) писал о революционной ситуации 1859–1860 гг. накануне издания Манифеста[43]. Правда, обходили молчанием тот факт, что в результате принятия Манифеста личную свободу с обязательным земельным наделом в частную собственность получили более 22 млн бывших крепостных.