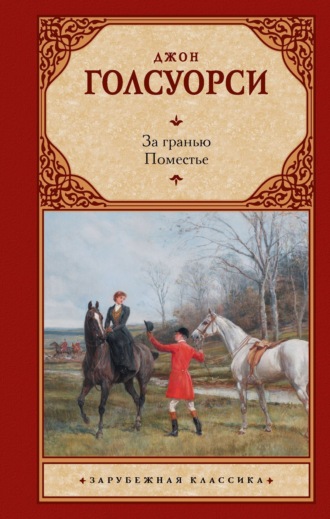
Полная версия
За гранью. Поместье
– Ох, Джип, я люблю вас. Люблю. Не гоните меня. Позвольте мне быть с вами! Я ваш пес, ваш раб. Ох, Джип, я люблю вас!
Его голос и растрогал, и напугал ее. Мужчины последние два года несколько раз говорили ей, что любят ее, но никто не делал это с таким отчаянием пропащей души, с таким взглядом в глазах, яростно настойчивым и одновременно умоляющим, с таким беспокойным, жадным, ищущим прикосновением рук. Она лишь нашла в себе силы пробормотать:
– Прошу вас, встаньте!
Но он продолжил:
– Любите меня, хоть немножко любите! О, Джип!
В уме мелькнуло: «Сколько раз он так стоял на коленях перед другими женщинами?» На лице музыканта лежала печать самоотречения, красоты, рожденной томлением страсти, и страх Джип рассеялся. Фьорсен сбивчивым шепотом продолжил:
– Я беспутный человек, и знаю это. Но если вы полюбите меня, я перестану им быть и стану совершать ради вас великие поступки. Ох, Джип, если бы вы однажды согласились стать моей женой! Не сейчас – когда я смогу вам доказать. Ох, Джип, вы так прелестны, так удивительны!
Его руки медленно взбирались все выше, он прижался лицом к ее талии. Не отдавая отчета в своих действиях, Джип тронула его волосы и повторила:
– Нет, встаньте.
Фьорсен наконец поднялся. Стоя рядом, вытянув сжатые в кулаки руки по швам, он прошептал:
– Сжальтесь надо мной! Скажите хоть слово!
Но Джип не находила слов. Внутри ее все было незнакомо, путано, трепетно, душа в неимоверном смятении одновременно и тянулась к нему, и отшатывалась от него. Джип лишь смотрела в лицо Фьорсена потемневшими встревоженными глазами. Внезапно он схватил ее и прижал к себе. Она отпрянула и изо всех сил оттолкнула его. Фьорсен, пристыженный, страдающий, понурил голову, зажмурился, у него дрожали губы. В сердце Джип шевельнулось сострадание. Она пробормотала:
– Я не знаю. Я вам потом скажу… позже… в Лондоне.
Музыкант поклонился, скрестив руки на груди, словно давая понять, что ей нечего больше бояться, а когда она, не обращая внимания на дождь, пошла вперед, увязался рядом, приотстав на один шаг, с покорным видом, словно не говорил только что жарких слов и не целовал ее губы в неистовом порыве.
Снимая в своей комнате мокрое платье, Джип попыталась вспомнить, что он говорил и что отвечала сама. Она не давала никаких обещаний. Назвала только свой адрес – лондонский и в деревне. Джип заставляла себя думать о других вещах, но мысли упрямо возвращались к прикосновениям неугомонных пальцев, твердой мужской хватке, выражению глаз Фьорсена во время поцелуя, и ее вновь накрывала волна страха и возбуждения.
В тот вечер он играл на концерте – ее последнем. Фьорсен никогда не играл так хорошо – в блеске смятения, лихорадочном экстазе. Слушая его, Джип не могла совладать с чувством обреченности – что бы она теперь ни сделала, судьбы не избежать.
Глава 5
После возвращения в Англию чувство обреченности прошло или почти прошло. Здоровый скептицизм подсказывал, что Фьорсен вскоре найдет себе новую пассию и обнаружит в ней все то, чем, по его словам, обладала Джип. Смешно даже думать, что музыкант прекратит ради нее свое сумасбродство и что она имеет над ним какую-либо реальную власть. Однако в глубине души Джип не верила собственным выводам. Если их принять, это подорвало бы ее веру в себя, тонкую и сокровенную, на грани бессознательного веру в нечто побудившее баронессу упомянуть «рок».
Уинтон с облегчением увез дочь в Милденхем, купил ей новую лошадь. Подоспел сезон охоты на лисий молодняк. По меньшей мере на неделю страстные скачки и вид охотничьих собак отодвинули все остальное на второй план, но вскоре, когда сезон по-настоящему вступил в силу, Джип вновь почувствовала уныние и смутную тревогу. Милденхем был погружен во тьму, жутко завывали осенние ветры. Ее любимая коричневая самка спаниеля, Красотка, едва дождавшись возвращения хозяйки, умерла от старости. Джип терзалась угрызениями совести из-за того, что оставила собаку без присмотра на такой долгий срок. Красотка, как не преминула сообщить Бетти со свойственной недалеким людям тягой к перечислению печальных подробностей, каждый день ждала возвращения хозяйки, и теперь Джип выглядела в собственных глазах черствой и бессердечной. В таких случаях она бывала одновременно сердобольной и чересчур строгой к себе. Джип захворала и слегла на несколько дней. Когда ей полегчало, встревоженный Уинтон немедля увез ее в Лондон к тетке Розамунде. Он любил общество дочери, но если город пойдет ей на пользу, поможет встряхнуться, будет только рад ее отпустить. Приехав через три дня на уикенд, Уинтон с облегчением отметил, что дочь действительно повеселела, и вернулся домой с легким сердцем.
В день возвращения отца в Милденхем Джип получила письмо от Фьорсена, переправленное с адреса на Бери-стрит. Скрипач находился на пути в Лондон и уверял, что не забыл ни одного ее взгляда и ни одного слова. Он писал, что не успокоится, пока не сможет снова ее видеть. «Очень долго, пока я не встретил вас, – говорилось в конце письма, – я был как мертвый, шел ко дну. Все было для меня кислым, как зеленые яблоки. Теперь я корабль, выбравшийся из бурных вод в теплое лазурное море, я вновь вижу перед собой путеводную звезду. Целую ваши руки. Ваш преданный раб, Густав Фьорсен». В устах другого мужчины такие слова вызвали бы у Джип лишь презрительную усмешку, однако письмо Фьорсена вновь пробудило трепет в душе, приятное и пугающее ощущение, что тебя вот-вот настигнут.
Она написала ответ и отправила на адрес Фьорсена в Лондоне, сообщив, что приехала на несколько дней на Керзон-стрит к тете, которая будет рада принять его в своем доме после обеда, с пяти до шести часов, и подписалась: «Гита Уинтон». Джип долго корпела над этим коротеньким письмом, и его лаконичная официальность наполняла ее чувством удовлетворенности. Хозяйка ли она самой себе и своему ухажеру? Способна ли вести дело так, как пожелает? Да! И письмо служило тому ярким подтверждением.
Эмоции Джип редко отражались на ее лице, что подчас озадачивало даже Уинтона. Подготовка к приему Фьорсена в доме тетушки Розамунды выглядела в исполнении Джип образцом непринужденности. Явившись в указанное время, музыкант тоже в оба следил за соблюдением приличий и посматривал на Джип, только когда мог сделать это незаметно для других, но, уходя, прошептал:
– Не так! Не так! Я должен видеть вас наедине! Должен! – Джип улыбнулась и покачала головой, однако душа ее заиграла, как шампанское.
В тот вечер она спокойно сообщила тетке Розамунде:
– Мистер Фьорсен не нравится отцу. Отец, разумеется, не способен оценить его игру.
Это осторожное замечание побудило тетю, заядлую, насколько позволяло ее аристократическое происхождение, меломанку, умолчать в письме брату о появлении гостя в ее доме. Следующие две недели Фьорсен приходил чуть ли не каждый день и всегда приносил с собой скрипку. Джип аккомпанировала ему и, хотя ее подчас бросало в жар от жадных взглядов шведа, перестань он это делать, она бы заскучала.
Когда Уинтон приехал на Бери-стрит в очередной раз, Джип пребывала в растерянности. Что делать? Признаться, что Фьорсен бывает здесь и она утаила этот факт в переписке с отцом? Или не признаваться, и пусть он сам все узнает от тетушки? Что хуже? В замешательстве она не сделала ни того ни другого и заявила отцу, что истосковалась по охоте. Расценив ее заявление как наиболее убедительную примету выздоровления, Уинтон немедленно забрал дочь в Милденхем. Джип, однако, не отпускало странное чувство – смесь легкости и раскаяния, радости от временной передышки и сознания, что вскоре ее потянет обратно. Место сбора находилось далеко от дома, и Джип настояла ехать туда верхом. Старый Петтанс, жокей на пенсии, великодушно пристроенный Уинтоном в Милденхеме помощником конюха, вел в поводу сменную лошадь. Дул сырой ветер, хорошо переносивший запахи. Неподалеку от чащи нашлось удобное местечко – Уинтон знал приемы, стоившие лишней пары загонщиков. Они прокрались туда, к счастью, не обнаружив себя, потому что их вел однорукий наездник в линялой розовой куртке на короткохвостой вороной кобыле, большой мастер выслеживать зверя. Из чащи выскочил на коне один из выжлятников, щуплый чернявый парень с глазами-углями и обветренными, ввалившимися щеками, проскакал мимо, помахал рукой и снова скрылся в лесу. С пронзительным криком вылетела сойка, спикировала вниз и повернула назад. Через поле под паром припустил заяц. Быстроногий русак почти растворился на буром фоне. Высоко в небе пролетела к другому перелеску стая голубей. Из чащи послышались резкие голоса выжлятников, временами скулили крутившиеся в папоротниках и кустах гончие.
Джип дышала полной грудью, до хруста в пальцах сжимая повод. Воздух под небесами с белыми и светло-серыми, быстро бегущими облаками и голубыми просветами благоухал свежестью и негой, внизу ветер был тише, чем наверху, его силы едва хватало, чтобы сдувать с берез и дубов листья, два дня назад побитые заморозками. Если бы только лисица выскочила прямо на них, и Джип могла бы первой ее заполевать! Как здорово быть одной, с собаками! Одна из гончих, еще молодая, деловитая и невозмутимая, выбежала, подняла рыжеватую с белым голову и с легким упреком темно-карих глаз оглянулась на команду Уинтона: «Искать, Трикс!» Какая лапочка! В чаще заиграл охотничий рог, и гончая исчезла в кустах шиповника.
Новый гнедой конь Джип навострил уши. Из-за деревьев на низкорослой рыжей кобыле выехал парень в сером сюртуке с короткими фалдами, темно-желтых плисовых брюках и сапогах до колена. Ох! Неужели все сейчас сюда набегут? Джип нетерпеливо обернулась на незваного гостя, тот, приподняв шляпу, улыбнулся. Немного дерзкая улыбка была так заразительна, что Джип не выдержала и улыбнулась в ответ. И тут же нахмурилась. Незнакомец нарушил ее уединение. Кто он такой? Парень имел непростительно безмятежный и довольный вид. Джип не помнила, кто он, однако в его облике было что-то знакомое. Охотник снял шляпу – широкое лицо приятной формы, гладко выбритое, черные курчавые волосы, невероятно прозрачные глаза, смелый, спокойный, жизнерадостный взгляд. Где она видела похожего на него человека?
Тихий оклик Уинтона заставил ее повернуть голову. За дальними кустами украдкой пробиралась лисица! Затаив дыхание, Джип неотрывно следила за лицом отца. Твердый, как сталь, внимательный взгляд. Ни звука, ни движения, словно всадник и конь превратились в бронзовую статую. Когда же он крикнет «ату»? Губы всадника шевельнулись, отдавая команду. Джип бросила благодарную улыбку парню за то, что он тактично и благоразумно уступил ей место рядом с отцом, молодой охотник еще раз улыбнулся в ответ. Вереницей, одна за другой, выбежали первые гончие – музыка сфер, блаженство! Почему отец все еще медлит? Зверь в любую минуту пробежит прямо мимо них!
Мимо пронеслась вороная кобыла, и конь Джип инстинктивно рванул за ней следом. Парень на рыжей лошади скакал по левую руку от Джип. Только доезжачий, один выжлятник, да они втроем! Красота! Гнедой жеребец слишком порывисто взял первую изгородь, и Уинтон крикнул через плечо: «Спокойнее, Джип! Держи его!» – но держать не получалось, да и зачем? А вот и трава, три участка травы! Чудо, а не лисица – бежит как по струнке! Всякий раз, когда конь отрывал передние ноги для прыжка, Джип ликовала: «Прекрасно! Я умею скакать верхом! Ах какое блаженство!» Она надеялась, что отец и молодой охотник смотрят на нее. На свете нет ничего слаще, да еще с таким вожаком, как отец; гончих никто больше не держит, гон отличный, другие всадники отстали. Это лучше танцев, лучше… да-да, лучше музыки. Если бы только всю жизнь жить галопом, взлетать над препятствиями, если бы это никогда не кончалось! Новый жеребец – молодчина, хотя и правда тянет поводья.
Джип перескочила через очередную преграду одновременно с юношей, чья рыжая кобыла шла неожиданно резвым аллюром. Шляпа парня натянута по самые уши, на лице – решимость, но на губах все еще играет тень прежней улыбки. Джип подумала: «У него хорошая посадка, очень крепкая, но он, кажется, чуть-чуть «подмахивает». Никто не ездит верхом лучше отца: вылитое спокойствие». И действительно: посадка Уинтона в седле была само совершенство, каждое движение отнимало минимум усилий. Лавина гончих развернулась дугой. Теперь она в самой гуще! Какой бешеный темп! Ни одна лиса долго не выдержит!
Джип вдруг увидела лисицу на дальнем краю поля: та отчаянно улепетывала, поджав хвост. В голове мелькнула мысль: «Ой, только не позволяй себя догнать. Беги, лисичка, беги! Удирай!» Бедный рыжий зверек! Его преследует толпа великанов – коней, мужчин, женщин, собак, – все гонятся за бедным лисенком. Но тут ей попалась еще одна изгородь, потом еще одна, ощущение стыда и жалости рассеялось, сменившись восторгом полета через препятствия. Через минуту лиса в нескольких сотнях ярдов от передовой собаки юркнула в нору. Джип была рада. Она не раз видела затравленных насмерть лис – ужасное зрелище! Но галоп получился на славу. Запыхавшись и восторженно улыбаясь, она прикинула, не вытереть ли лицо, пока с ней не поравнялись другие всадники, пока этот юноша не видит.
Он разговаривал с ее отцом. Джип достала носовой платок с ароматом цикламена и тщательно вытерла пот. Когда она подъехала к ним, молодой человек приподнял шляпу и, глядя ей прямо в глаза, произнес:
– Вы прекрасно гнали!
В несколько высоком голосе юноши прозвучали нотки ленивой беззаботности. Джип иронично поклонилась и пробормотала:
– Вы хотите сказать – моя новая лошадь?
Его лицо опять расплылось в неотразимой улыбке, но Джип чувствовала, что он восхищен ей, и продолжала думать: «Да где же я раньше видела кого-то похожего?»
Они сделали еще два гона, но ничто не могло сравниться с первым галопом. Юноша больше не попадался ей на глаза. Как выяснилось, это сын леди Саммерхей из Уидрингтона, поместья в десяти милях от Милденхема.
На протяжении возвращения трусцой с Уинтоном при свете тающего дня Джип чувствовала себе абсолютно счастливой, напоенной свежим воздухом и энтузиазмом. На деревья, поля, стога сена, ворота и пруды у дорог опускались сумерки. В окнах коттеджей зажигали свет. В воздухе витал сладкий запах каминного дыма. Она впервые за весь день – почти с тоской – вспомнила о Фьорсене. Было бы здорово, если бы он оказался с ней в маленькой уютной гостиной, сыграл бы для нее, пока она полулежит, откинувшись на спинку дивана, сонно размышляя под аромат горящих кедровых поленьев, исполнил бы менуэт Моцарта или небольшую, берущую за душу пьесу Пуаза, как в тот первый раз, когда она его слушала, да хоть любую из десятка других мелодий в его сольном исполнении. Чудесное завершение чудесного дня. Для совершенства не хватало только яркости и теплоты музыки и мужского обожания!
Толкнув пяткой бок лошади, Джип вздохнула. Легко позволять себе фантазии о музыке и Фьорсене, когда его самого нет поблизости. Она даже не стала бы противиться, если бы он вновь повел себя, как тогда, под мокрыми березками в Висбадене. Как приятно, когда тебя боготворят. Старая кобыла, шесть лет ходившая под седлом, начала пофыркивать, что служило верным признаком близости дома. А вот и последний поворот: показались очертания буковой аллеи, ведущей к старому особняку, удобному, просторному, немного темноватому, с широкими плоскими лестницами. Ах как она устала! Вдобавок начал моросить дождь. Завтра все тело будет приятно ломить. В освещенном дверном проеме Джип увидела Марки и, нащупывая в кармане кусочек сахара для лошади, услышала:
– Мистер Фьорсен, сэр, джентльмен из Висбадена, желает вас видеть, сэр.
У нее екнуло сердце. Что это значит? Почему он приехал? Как он осмелился? Почему ее выдал? Ах, ну конечно! Он же не знал, что она ничего не рассказала отцу. Вот и получи! Джип, не задерживаясь, взбежала по ступеням наверх. Ее заставил очнуться от мыслей голос Бетти:
– Ваша ванна готова, мисс Джип.
– Принесите мне чаю наверх! – отозвалась Джип и скрылась в ванной комнате. Здесь она была в безопасности; к тому же, расслабившись в горячей воде, легче разобраться в ситуации.
Визит Фьорсена мог иметь лишь одну причину: скрипач приехал просить ее руки. Джип вдруг успокоилась. Так даже лучше, не надо будет больше ничего скрывать от отца. Отец встанет между ней и Фьорсеном, если… если она решит ему отказать. Мысль о браке взбудоражила ее. Неужели она, сама того не подозревая, зашла так далеко? Да, «далеко» не то слово. Как все невпопад! Фьорсен не примет отказа, даже если она лично о нем объявит. Но разве она собирается ему отказать?
Джип любила нежиться в горячей воде, но никогда так долго в ванне не сидела. Пока ты вот так лежишь, жизнь проста, но стоит выйти за дверь, и она становится очень сложной. Бетти постучала в дверь, заставив Джип наконец вылезти из воды и впустить ее с чаем и приглашением спуститься вниз, когда будет готова.
Глава 6
Уинтон был потрясен. Быстро проводив взглядом удаляющуюся фигуру дочери, он отрывисто спросил Марки:
– Где вы оставили этого джентльмена?
Его истинное отношение к шведу проскользнуло лишь в виде добавления словечка «этого». Пока он пересекал просторный холл, в его голове роилось множество сумбурных мыслей. Войдя в кабинет, Уинтон с подчеркнутой вежливостью наклонил голову, предлагая Фьорсену заговорить первым. Жалкий скрипач в пальто с меховой подкладкой теребил в руках мягкую шляпу, но выглядел по-своему импозантно. Вот только почему он не смотрит в глаза, а когда смотрит, кажется, что готов тебя съесть?
– Вы, конечно, знаете, что я вернулся в Лондон, майор Уинтон?
Выходит, Джип встречалась с этим малым без его ведома! Мысль вызвала в душе Уинтона холодную горечь. Однако дочь не следовало выдавать, поэтому он ограничился кивком. Уинтон чувствовал, что гостя страшит ледяная вежливость хозяина дома, и не собирался идти ему навстречу. Майору, разумеется, было невдомек, что его надменность не помешает Фьорсену смеяться над ним за спиной и делать вид, будто он для него пустое место. По сути, между двумя мужчинами, чья жизнь протекала в столь разных плоскостях, не могло быть никакого реального соревнования: один ни капли не уважал правила поведения и представления другого.
Фьорсен, начав было бегать по кабинету, остановился и взволнованно произнес:
– Майор Уинтон, ваша дочь – одно из самых прелестных созданий во всем мире. Я отчаянно ее люблю. У меня есть будущее, хотя вы, наверно, так не считаете. Я смогу добиться любых высот в искусстве, если только она будет моей женой. У меня есть кое-какие деньги – немного, однако моя скрипка обеспечит ей любое будущее по ее желанию.
Лицо Уинтона не выражало ничего, кроме холодного презрения. Его оскорбило, что этот тип решил, будто счастье дочери он измеряет деньгами.
Фьорсен продолжил:
– Я вам не нравлюсь, мне это ясно. Я заметил это с самого начала. Вы английский джентльмен… – произнес он с оттенком иронии. – Я для вас пустое место, но в моем мире кое-что значу. Я не проходимец. Позвольте мне просить вас выдать за меня вашу дочь.
Фьорсен вскинул руки, все еще сжимавшие шляпу, и непроизвольно сложил, как в молитве.
Уинтон на секунду ощутил душевную боль. Слабость мгновенно прошла, и он ледяным тоном произнес:
– Я обязан поблагодарить вас, сэр, что вы первым обратились ко мне. Вы у меня в гостях, и я не хочу быть невежливым, но я буду рад, если вы соизволите покинуть мой дом и расцените мою просьбу как знак того, что я буду препятствовать исполнению вашего желания, насколько это будет в моих силах.
Почти детская разочарованность и тревога на лице Фьорсена быстро сменились беспощадной, скрытой издевкой, переходящей в смятение.
– Майор Уинтон, ведь вы тоже любили. Вы наверняка любили ее мать. Я страдаю!
Отвернувшись было к камину, Уинтон вновь посмотрел на него:
– Я не управляю пристрастиями дочери, сэр. Она поступит так, как сочтет нужным. Я лишь говорю, что, если она выйдет за вас, то это случится вопреки моим надеждам и суждениям. Могу себе представить, что вы не очень-то рассчитывали на мое одобрение. Я не слепой и видел, как вы обхаживали ее в Висбадене, мистер Фьорсен.
Скрипач ответил с кривой вымученной улыбкой:
– Голь на выдумки хитра. Я могу ее видеть? Хотя бы позвольте мне увидеть ее.
Какой смысл отказывать? Джип уже встречалась с этим типом, не спрашивая разрешения у отца, скрывая от него –от него! – все свои чувства, и Уинтон сказал:
– Я пошлю за ней. А тем временем не желаете ли чего-нибудь выпить?
Фьорсен покачал головой, и после этого состояние острой неловкости длилось еще добрых полчаса. Уинтон, сидя у огня в заляпанной грязью одежде, переносил его более стойко, чем гость. Этот дикарь, попытавшись подражать невозмутимости хозяина дома, вскоре махнул рукой на свои попытки, стал нервно суетиться, расхаживать по комнате, подошел к окну, отдернул занавески, посмотрел в темноту, вернулся с явным намерением снова пристать к Уинтону с разговорами, но, озадаченный неподвижностью фигуры у огня, уселся в кресло и отвернулся к стене. Уинтон не был по натуре жестоким, и тем не менее его забавляли корчи этого субчика, угрожавшего благополучию Джип. Угрожавшего? Не может быть, чтобы она приняла его предложение! Но если так, почему она не призналась, что встречается с ним? Уинтон страдал не меньше Фьорсена.
Наконец она пришла. Уинтон ожидал, что дочь явится бледной, будет нервничать, но Джип еще ребенком признавалась в прегрешениях, только если ее заранее прощали. Улыбающееся лицо девушки несло на себе оттенок предостережения. Она подошла к Фьорсену и, протянув руку, спокойно сказала:
– Как мило, что вы приехали!
Уинтон с горечью почувствовал, что лишним здесь был он и только он. Ну что же, тогда придется все высказать напрямик, хватит ходить вокруг да около.
– Мистер Фьорсен оказал нам честь, предложив жениться на тебе. Я сказал ему, что такие решение ты принимаешь сама. Если согласишься, то это, как ты понимаешь, произойдет вопреки моему желанию.
Он еще не закончил говорить, а щеки Джип уже пылали. Она не смотрела ни на отца, ни на Фьорсена. Уинтон заметил, как вздымаются и опускаются кружева у нее на груди. Джип улыбнулась и едва заметно пожала плечами. Уязвленный до глубины души, Уинтон твердым шагом направился к двери. Было совершенно ясно, что дочь не нуждается в его нравоучениях, коль этот субъект для нее важнее любви к отцу! Но он тут же подавил в себе обиду, понимая, что не может себе позволить обижаться на дочь: он не мыслил без нее жизни. Даже если Джип выйдет за самого отъявленного негодяя на свете, он не бросит ее и по-прежнему будет желать ее общества и ее любви. Джип слишком много значила для него и в настоящем, и в прошлом. С занозой в сердце он ушел к себе.
Когда Уинтон снова спустился вниз, Фьорсен уже уехал. Майор ни за что на свете не стал бы выспрашивать, о чем говорил скрипач и что ему отвечала дочь. Через пропасть, разделявшую гордецов, нелегко перекинуть мосты. Когда Джип пришла пожелать отцу спокойной ночи, лица обоих были как у восковых фигур.
В последующие дни Джип ни словом, ни жестом не показывала, что намерена пойти против его воли. О Фьорсене не упоминали, словно его и не было, но Уинтон понимал, что Джип обижена и на него, а этого он не мог перенести, поэтому однажды вечером после ужина спокойно спросил:
– Скажи честно, Джип, этот парень тебе небезразличен?
Она так же тихо ответила:
– По-своему – да.
– И этого достаточно?
– Я не знаю, отец.
Губы Уинтона дрогнули, а сердце смягчилось, как бывало всегда, когда он видел дочь взволнованной. Он накрыл ладонью ее руку и сказал:
– Я никогда не буду стоять на пути твоего счастья, Джип, но только если счастьенастоящее. Так ли это? Я не уверен. Знаешь ли ты, что говорят об этом человеке?
– Да.
Уинтон не рассчитывал получить утвердительный ответ, и у него внутри все оборвалось.
– Довольно скверные вещи, я бы сказал. И нашего ли он круга?
Джип подняла глаза:
– Ты думаешь, я принадлежу к нашему кругу, отец?
Уинтон отвернулся. Она подошла и взяла его под руку.
– Я не хотела тебя обидеть. Но ведь это правда, не так ли? Мне не место в высшем обществе. Меня бы не приняли, если бы знали то, о чем ты мне рассказал. После того дня я всегда чувствовала себя чужой среди них. Он мне ближе. Музыка для меня важнее всего на свете!
Уинтон порывисто сжал руку дочери. Его охватило ощущение грядущего поражения и тяжелой утраты.
– Если счастье изменит тебе, Джип, я буду страшно расстроен.
– Почему бы мне не быть счастливой, отец?
– Ради твоего счастья я примирюсь с кем угодно, но, должен признать, не верю, что ты будешь с ним счастлива, поэтому заклинаю тебя Богом: сначала убедись сама. Я пристрелю любого, кто посмеет плохо к тебе относиться.
Джип улыбнулась и поцеловала отца. Оба надолго замолчали.
Перед сном Уинтон сказал:












