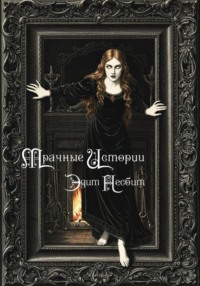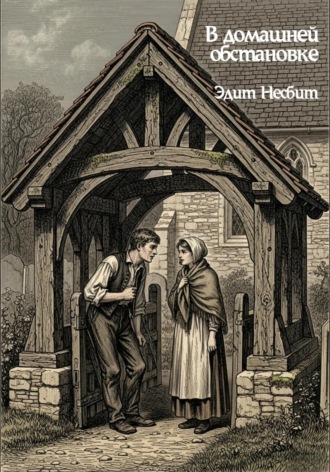
Полная версия
В домашней обстановке
Но, ах! Бедная моя, она ведь моя сестра – моя единственная сестра – и не время сейчас быть к ней строгой, когда она там, где она есть.
Она постоянно встречалась с одним степенным молодым человеком, который всю неделю работал в Гастингсе, а на воскресенье приезжал сюда, домой, и она вышла бы за него замуж и была бы счастлива, как королева, я знаю; и все ее гляденье в зеркало, все наряды со временем сменились бы гордостью за своих деток, и она тратила бы каждую свободную копейку, чтобы наряжать их; но этому не суждено было сбыться.
Молодой Барбер, сын бакалейщика, у которого было место в Лондоне, приехал на летние каникулы, и тут же полилось вежливое «нет, благодарствую» бедняге Артуру Симмонсу, который любил ее преданно и верно те два года, и теперь она только и делала, что гуляла с молодым мистером Барбером, да еще бегала в лавку по двадцать раз на дню без всякого повода, просто чтобы перекинуться словечком через прилавок.
И отец был не слишком-то доволен, но он всегда был человек молчаливый, очень набожный, и не говорил много, сидя за своим верстаком, – он ведь с юности сапожничал и пользовался большим уважением среди жителей Певенси. Он, бывало, напевал себе под нос псалом-другой за работой, но никогда не был многословен. Когда молодой Барбер вернулся в Лондон, Эллен стала терять свою красоту. Мне молодой Барбер никогда особо не нравился. Было в нем что-то простоватое – не как у наших работяг, а эдакая городская пошлость, что, по-моему, в двадцать раз хуже; и если уж я и раньше его не любила, то можете себе представить, не много любви я к нему питала, видя, как чахнет бедная Эллен.
И если уж мне рассказывать эту историю, то рассказывать нужно очень ровно и спокойно, не вдаваясь в то, что я думала или что я чувствовала, иначе у меня никогда не хватит духу довести ее до конца. Короче говоря, не прошло и месяца после отъезда молодого Барбера, как однажды утром нашей Эллен не оказалось дома. И она оставила записку, прибитую гвоздем к отцовскому верстаку, где говорилось, что она уехала со своим возлюбленным, и чтобы отец не беспокоился, потому что она выходит замуж.
Отец, он ни слова не сказал, но побелел страшно, а губы посинели, и на одно ужасное мгновение я подумала, что потеряла и его. Но он скоро пришел в себя. Я сбегала в «Три лебедя» за каплей бренди для него; и я снова посмотрела на ее письмо, и посмотрела на него, и мы оба поняли, что ни один из нас не верит, что она выходит замуж. Что-то было в самой манере, какими словами она это написала, что показывало – это неправда.
Отец, он ничего не говорил, только когда пришло следующее воскресенье, и я разложила его воскресную одежду и шляпу, все вычищенное, как обычно, он говорит:
– Убери, дочка. Я не верю в воскресенье. Как я могу верить во все это, когда моя Эллен пошла на позор?
И после этого воскресенья для него стали как будни, и люди косились на нас, и я думаю, они считали, что, с побегом Эллен и работой отца по воскресеньям, мы встали на прямую дорогу в геенну огненную.
Так шло время, и наступило Рождество. Колокола звонили в сочельник, и я говорю отцу: «О, отец! Пойдем в церковь. Может, все это правда, и Эллен – честная женщина, в конце концов».
И он поднял голову и посмотрел на меня, и в этот момент в дверь тихонько и робко постучали. Я знала, кто это, еще до того, как успела шевельнуть ногой, чтобы пересечь кухню и открыть ей. Она зажмурилась от света, когда я отворила ей дверь. Ох, бледным и худым было ее лицо, что прежде алело, как роза, и…
– Можно войти? – спросила она, словно это был не ее родной дом. А отец, он смотрел на нее, как человек, который ничего не видит, и я испугалась, что он может сделать, дура, какой я была, – должна была бы знать лучше.
– Я очень устала, – говорит Эллен, прислонившись к косяку, – я проделала очень долгий путь.
И в следующую минуту отец делает два длинных шага к двери, и руки его смыкаются вокруг нее, а она виснет у него на шее, и они двое обнимают друг друга, словно никогда не отпустят. Так она вернулась домой, и я закрыла дверь.
И все то время мы с отцом не знали, как ей угодить, – я была так благодарна Господу, что Он позволил нашей дорогой вернуться к нам; и ни слова она мне не сказала о том, кто ее погубил. Но однажды ночью, когда я по глупости, едва ли думая, что делаю, задала ей какой-то вопрос о нем, отец так ударил кулаком по столу, что сказал:
– Когда ты произносишь это имя, дочка, ты зажигаешь во мне ад, и если я когда-нибудь снова увижу его проклятую рожу, помоги Господь и ему, и мне.
И я прикусила свой глупый язык и сидела, шила с Эллен долгие дни, и это было счастливое, печальное время, если время может быть и печальным, и счастливым одновременно.
И где-то в пору первоцветов пришел ее час, и мы держали все в тайне, и никто не знал, кроме нас и миссис Джарвис, что жила в соседнем коттедже и была крестной Эллен и любила ее, как родную дочь; и когда ребенок родился, Эллен спрашивает: «Мальчик или девочка?» И мы сказали ей, что мальчик.
Тогда она говорит: «Слава Богу! Моему сыночку не придется узнать такого позора, как мне».
И ни один из нас не осмелился сказать ей, что Господь судил так, что ни позора, ни боли, ни горя ее маленькому сыночку не суждено было узнать, потому что он был мертв. Но вскоре она захотела, чтобы его положили рядом с ней, а мы говорили «Нет, он спит»; и, несмотря на все наши слова, она как-то догадалась о правде. И она начала плакать, слезы текли по ее щекам, смачивая белье вокруг нее, и она начала стонать: «Я хочу своего ребеночка – о, принесите мне моего маленького ребеночка, которого я еще даже не видела. Я хочу попрощаться с ним, потому что я никогда не попаду туда, куда идет он».
И отец сказал: «Принеси ей дитя».
Я одела бедного крошку – красивый был мальчик, и вырос бы в статного мужчину – в одну из распашонок, что я с такой радостью шила для него, и в чепчик с гофрированным краем, который был у самой Эллен, когда она была младенцем и гордостью своей матери, и я принесла его и положила ей на руки, и он был холоден, как глина, в моих руках, пока я его несла. И она приложила его головку к своей груди, как могла в своей слабости; а отец, который склонился над ней, почти обезумев от любви и беспокойства за нее, говорит:
– Пусть Люси унесет бедняжку, Эллен, – говорит он, – а ты должна постараться поправиться и набраться сил ради тех, кто тебя любит.
Тогда она говорит, обратив на него глаза, сияющие, как звезды, на ее бледном лице, и все еще крепко прижимая ребенка к груди: «Я знаю, что лучшее я могу сделать для тех, кто меня любит, и я это делаю быстро. Поцелуй меня, отец, и поцелуй ребенка тоже. Может быть, если я буду крепко его держать, мы вместе уйдем во тьму, и у Господа не хватит духу нас разлучить». И так она умерла.
И никто, кроме меня, не прикасался к ней после смерти, хоть я и калека, и я обрядила ее, мою красавицу, своими руками, и ребенка – в изгибе ее руки; и я обложила их первоцветами, и привела отца посмотреть на них, когда все было сделано, и мы стояли там, держась за руки, и смотрели, как она лежит, такая милая и умиротворенная, и такая хорошая на вид, что бы вы ни думали, – вся печаль стерта с ее лица, словно Господь уже омыл его в своем небесном свете.
Эллен похоронили на церковном кладбище, и пастор, который всегда был человеком суровым, хотел, чтобы ее положили с северной стороны, куда не попадает солнце из-за деревьев и церкви, и где мало кто любит быть похороненным. Но отец сказал: «Нет; положите ее рядом с матерью, на том клочке земли, что я купил двадцать лет назад, где и сам собираюсь лежать, и Люси тоже, когда придет ее час, чтобы, если разговоры о воскрешении – правда, мы бы все вместе предстали в судный день, как и положено родне».
Так ее там и похоронили, и ее имя высекли под именем матери на надгробии.
Отец не горевал и не убивался, как иные мужчины, но стал тише, чем прежде, и, казалось, не было в его работе той жилки, что была всегда, даже после того, как она нас покинула. Словно что-то в нем надломилось. Не то чтобы он не был ко мне самой добротой тогда и всегда. Но я не была его любимой дочерью, да и не могла на это рассчитывать, будучи такой, какая я есть, а она – такой милой и красивой, и с такой особой манерой.
И отец ходил в церковь на похороны, но на службу не оставался. «Я думаю, может, и есть Бог, и если есть, то у меня на сердце такое, что вполне достаточно держать в своем бедном доме, не осмеливаясь нести это в Его дом».
И я тоже перестала ходить. Не хотела, чтобы казалось, будто я осуждаю отца, пусть даже меня саму осуждала вся деревня. Но когда я слышала, как звонят церковные колокола, мне казалось, будто кто-то, кто любит меня, зовет меня, а я не отвечаю; и иногда, когда все были в церкви, я ковыляла на костылях к воротам и стояла там, и иногда слышала, как обрывки пения доносятся через открытую дверь.
В конце августа мистер Барбер в лавке упал с лестницы, ведущей на склад, и разбился насмерть; и миссис Джарвис говорит мне: «Если этот молодой Барбер вернется домой, как я полагаю, чтобы вступить в свои законные права, то ему лучше бы сунуть голову в печь в день выпечки, да попросить злейшего врага засунуть ему ноги следом и захлопнуть дверцу».
– Он не вернется, – говорю я. – Как он сможет смотреть людям в глаза, когда вся деревня знает?
Потому что, когда Эллен умерла, это уже нельзя было скрыть, и многие из тех, кто подобрал бы юбки, чтобы не коснуться ее, будь она жива и здорова, с ребенком на руках, теперь проливали слезу и находили доброе слово для нее, когда она ушла туда, где ни слезы, ни слова не могли достать ее ни для добра, ни для зла.
Я как-то видела строчки в одной книге, и там говорилось, что когда женщина совершит то, что совершила она, единственный способ получить прощение – это умереть, и я верю, что это правда. Но это неправда для отцов и сестер.
Было воскресное утро, и отец работал за своим верстаком – не то чтобы работа делала его счастливее, просто без нее ему было еще хуже, – а я доковыляла до церковного двора, чтобы прислониться к стене и послушать, как внутри поют псалмы, когда, глядя вниз по деревенской улице, я увидела, что лавка Барбера открыта, и из нее вышел сам молодой Барбер. О, если Господь и забудет кого-то в своем милосердии, то это его и ему подобных!
Он вышел весь нарядный и опрятный в своем новом черном и тихо насвистывал мелодию псалма. Наш дом стоял между лавкой Барбера и церковью, в двух шагах, не дальше; и я молилась Богу, чтобы Барбер повернул в другую сторону и не проходил мимо нашего дома, где отец сидел за своим верстаком при открытой двери.
Но он повернул и пошел прямо ко мне; и я положила костыли на землю и нагнулась, чтобы поднять их и пойти домой – чтобы пресечь слова; ибо что значили слова, когда она была в могиле? – как вдруг я услышала голос молодого Барбера, и, выглянув из-за стены, увидела, что он, в своем безумии, и глупости, и злобе сердечной, остановился прямо напротив дома, которому он принес позор, и говорил с отцом через дверь.
Я не слышала, что он сказал, но, казалось, он ждал ответа, а когда ответа не последовало, он крикнул чуть громче: «О, да ладно, нечего тебе так задирать нос, во всяком-то случае!» И за то, как он это сказал, я бы сама его убила, если бы не была воспитана в знании, что два зла не делают одного добра, и «Мне отмщение, и аз воздам, глаголет Господь».
В церкви шла молитва, и на улице не было ни звука, кроме воркования голубей на крышах, а молодой Барбер, он стоял там, глядя в нашу дверь с этой своей ехидной ухмылочкой на лице, и в следующую минуту он уже бежал со всех ног к церкви, где были все люди, а за ним, как безумный, гнался отец с длинным ножом в руке, которым он резал кожу. Все произошло в одно мгновение.
Барбер бежал по пыльной дороге в своем черном костюме, мимо меня, стоявшей у ворот церковного двора, и дальше к церкви; но внезапно на тропинке он резко остановился, глаза его, казалось, вылезали из орбит, когда он смотрел на могилу Эллен – не то чтобы он мог прочесть ее имя, надгробие было повернуто в другую сторону, – и он закрыл лицо руками и застыл, дрожа, как кролик, на которого наткнулись собаки, и он не может найти выхода. Затем он вскрикнул: «Нет, нет, прикройте ей лицо, ради всего святого!» – и сжался у подножия могильного камня, и отец, стремительно настигая его, пронесся мимо меня у ворот, и он дважды вонзил нож в спину Барбера, пока тот съеживался, и они вместе покатились по дорожке.
Тогда все люди в церкви, услышавшие крик, высыпали наружу, как муравьи, когда пройдешь по муравейнику. Молодой Барбер держался за надгробие, кровь текла из-под его нового сукна, и смерть была написана на его лице большими буквами.
Я подбежала, чтобы поднять отца, который упал лицом на могилу, и когда я наклонилась над ним, молодой Барбер повернул ко мне голову и сказал голосом, который я едва расслышала, таким шепотом: «Там был ребенок? Я не знал, что был ребенок… маленький ребенок у нее на руках, и цветы вокруг».
– Твой ребенок, – говорю я, – и да простит тебя Господь!
И я знала, что он видел ее такой, какой видела ее я, когда мои руки готовили ее ко сну в долгой ночи.
Я никогда не верила в призраков, но кто знает, что дозволит Всемилостивый Господь.
Так настигло его возмездие, и его унесли умирать, и кровь капала на гравий; и он больше не проронил ни слова.
А когда подняли отца с красным ножом, все еще зажатым в руке, они обнаружили, что он мертв, и лицо его было белым, а губы синими, как я уже видела их прежде. И все говорили, что отец, должно быть, сошел с ума; и так он лежит там, где хотел лежать, и там есть место, где однажды лягу и я, – где лежит отец, и мать, и моя дорогая с ее маленьким ребеночком в изгибе ее руки.
ГРЭНДСАЙР ТРИПЛС
«Грэндсайр Триплс» (Grandsire Triples) – название сложной последовательности колокольного звона в английской традиции, исполнение которой может занимать несколько часов. (Прим. пер.)
Можно сказать, я была Уильяму обещана почти семь лет как. То есть, когда ему стукнуло почти четырнадцать, и он должен был уехать к дяде в Сомерсет учиться фермерскому делу, он поцеловал меня, дал половинку сломанного шестипенсовика и сказал:
– Кейт, я никогда не буду думать ни о какой другой девушке, кроме тебя, и ты никогда не должна думать ни о каком другом парне, кроме меня.
И Господь, в Своей доброте, знает, что я и не думала.
Отец с матерью посмеивались, называли это детскими глупостями; но в целом были не против, потому что Уильям был парень видный и должен был стать состоятельным, когда его добрый отец умрет, чего я, уж поверьте, никогда не желала и о чем не молилась. Вся беда пришла оттого, что он поехал в Сомерсет учиться фермерскому делу, потому как дядя его был католиком, и он научил Уильяма куда большему, чем тот собирался узнать, так что вскоре Уильяму ничего не оставалось, как самому обратиться в католичество. А мне, благослови вас Господь, было все равно. Я никогда не понимала, из-за чего такой шум между этими двумя лагерями. Господи, помилуй! Мы все христиане, я надеюсь. Но отец с матерью ужасно расстроились, когда пришло письмо, в котором говорилось, что Уильяма «приняли» (словно он посылка, доставленная извозчиком). Отец говорит:
– Что ж, Кейт, меньше слов – меньше бед. Но я скорее предпочел бы видеть тебя лежащей на лучшей кровати наверху, чем замужем за Уильямом, сыном Вавилонской блудницы.
В своей глупой невинности я не могла понять, что он имел в виду, потому что мать Уильяма была приличной женщиной, которая по будням носила ситцевое платье в сиреневый цветочек, а по воскресеньям простое черное, хотя и была женой зажиточного фермера и могла бы наряжаться, как фазан.
Это было за чаем, я плакала прямо на свой хлеб с маслом, а матушка для компании немного шмыгала носом за чайным подносом, а отец ка-ак стукнет кулаком по столу, так что чашки зазвенели, и говорит:
– Ты должна его бросить, дочка. Напиши и скажи ему, а я отнесу письмо, когда пойду сегодня вечером в церковь на репетицию. Я был тебе хорошим отцом, и ты должна быть мне хорошей дочерью; и если ты выйдешь за него замуж, за такого, какой он есть, я никогда больше не заговорю с тобой ни на этом свете, ни на том.
– На том у тебя не будет шанса, боюсь, Джеймс, – мягко сказала матушка, – потому что ее бедная душа после такого не сможет надеяться попасть в рай.
– Надеюсь, что и нет, – сказал отец, и с этими словами встал и вышел, оставив в кружке половину недопитого чая.
Что ж, я написала то письмо, и сказала Уильяму, что мы с ним никогда не сможем быть никем, кроме как друзьями, и что он должен думать обо мне, как о сестре, – так велел мне сказать отец. Но надеюсь, не будет большим грехом, что я вставила и кое-что от себя, и вот что я написала после того, как сказала ему про друга и сестру:
«Но, дорогой Уильям, – написала я, – я никогда не буду любить никого, кроме тебя, в этом можешь быть уверен, и я скорее останусь старой девой до конца своих дней, чем свяжусь с другим парнем; и я хотела бы увидеться с тобой один раз, если будет удобно, прежде чем мы расстанемся навсегда, чтобы сказать тебе все это, и сказать „прощай“ и „благослови тебя Бог“. Так что ты должен найти способ тихо сообщить мне, когда вернешься из Сомерсета, где учился фермерскому делу».
И да простится мне эта хитрость и, я бы сказала, дерзость! Я и вправду отдала отцу то самое письмо, чтобы он его отправил, и он, веря, что я лучше, чем была на самом деле, к стыду моему, отправил его, не сомневаясь, что я написала только то, что он велел.
Это было самое печальное лето в моей жизни. Розы ничего для меня не значили, и лаванда тоже, которую я всегда так любила; а что до малины, не думаю, что я бы огорчилась, если бы на кустах не было ни одной ягоды; и даже маленькие цыплята, я думала о них как о помехе, и – скрепя сердце говорю – целый выводок из-за этого съели крысы. Все, казалось, шло наперекосяк. Масло сбивалось вдвое дольше, чем когда-либо, на бобах завелась черная тля, а отец из-за погоды потерял половину сена. Если бы это я сделала что-то недоброе, отец бы сказал, что это кара небесная на меня. Но я, конечно, знала, что не стоит говорить такое собственному отцу, когда его сено лежит, гниет и дымится на десятиакоровом поле, и упрекать его в том, что его судят.
Что ж, урожай был собран. Ни то ни се. Видала я годы и получше, видала и похуже. И наступил октябрь. Однажды вечером я собиралась ложиться спать; по крайней мере, я еще не начала раздеваться, потому что сидела там с письмами Уильяма, которые он писал мне время от времени, пока был в Сомерсете, и я перечитывала их и думала об Уильяме, по-глупому, как это бывает у молодых девушек, и жалела, что это не я католичка, а он протестант, потому что тогда я могла бы уйти в монастырь, как злые люди в отцовских книжках. Я была в таком глупом состоянии, видите ли, что мне хотелось сделать что-нибудь для Уильяма, даже если это было бы всего лишь уходом в монастырь – чтобы меня, может быть, замуровали заживо. И тут я слышу какой-то шорох, шорох, шорох, и «Чтоб вас, мыши», – говорю я; но не обращаю внимания, а потом тихий стук, стук, словно птица клювом по оконному стеклу, и я пошла и открыла, думая, что это птица сбилась с пути и по-глупому, как они это делают, летит на свет. Я отдернула занавеску, открыла окно, и это был – Уильям!
– О, уходи, уходи, – говорю я, – отец услышит.
Он взобрался по груше, что росла по обе стороны стены, и…
– Прошу прощения, – говорит он, – моя милая, за то, что позволил себе такую вольность – прийти к твоему окну в такое время ночи, но другого способа, кажется, не было.
– О, уходи, дорогой Уильям, уходи же, – говорю я. Я каждую секунду ждала, что дверь откроется и отец просунет голову.
– Я не уйду, – сказал Уильям, – пока ты не скажешь мне, где мы встретимся, чтобы сказать «прощай» и «благослови тебя Бог», как ты написала в письме.
Хоть я и знала весь наш приход лучше, чем свою ладонь, поверите ли, я в тот момент никак не могла придумать, где бы мне встретиться с Уильямом, и стояла, как дура, вся дрожа. Ох, как я подскочила, когда услышала в саду снаружи звук, похожий на тяжелый шаг!
– О! Это отец обошел. О! Он убьет тебя, Уильям. О! Что же нам делать?
– Глупости! – сказал Уильям, схватил меня за плечо и легонько встряхнул. – Это всего лишь одна из этих груш, которую я сбил. Должно быть, они твердые, как железо, раз так падают.
Потом он поцеловал меня, и я сказала: «Тогда я встречу тебя завтра у Пасторской Рощицы в половине шестого, и уходи же. У меня сердце так колотится, что я едва слышу собственный голос».
– Бедная пташка! – говорит Уильям. Потом он снова поцеловал меня и ушел; и, учитывая, как тихо он пришел, так что даже я его не слышала, вы бы не поверили, какой шум он устроил, спускаясь по этой груше. Я каждую минуту думала, что кто-нибудь сейчас войдет посмотреть, что происходит.
Что ж, на следующий день я ходила по дому, испуганная, как кролик, и сердце мое колотилось так, что готово было выскочить, пытаясь не думать о том, что я пообещала сделать. За чаем отец говорит, глядя прямо перед собой:
– Уильям Бёрт вернулся домой, Кейт. Ты помнишь, что обещала мне не перемолвиться с ним ни словом, раз уж он там, где он есть, вне стада, среди псов и прочего.
И я не ответила, хоть и знала, что это нечестно; но я не давала ему слова. Отец воспитал меня строго, но с добротой, и я знала свой долг перед родителями, и собиралась его исполнить. Но я не могла не думать, что у меня есть и небольшой долг перед Уильямом, и я собиралась его исполнить, по крайней мере, в том, что касалось моего обещания встретиться с ним в тот день. Так что после чая я говорю, и я думаю, это почти единственная ложь, которую я когда-либо говорила:
– Матушка, – говорю я, – у меня так зуб разболелся, что я едва вижу, как нитку в иголку вдеть.
Тогда она говорит, как я и знала, что скажет, – добрая душа, каких свет не видывал: «Пойди, приляг немного, да накройся старой овчинной шубой, а я пока за штопку возьмусь».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.