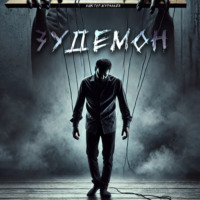Полная версия
Фигуры молчания
Воспоминание идёт как игра в замедленной съёмке:
приглашения с одинаковыми координатами, старое крыло планетария, техвход на щеколде. Он помнит ржавые лестницы, где разные ступени скрипят по-разному, и то, как выбирал, на какую наступить, чтобы звук был нужной длины.
Обсерватория пахла сухим деревом и металлом. Чемоданчик на столе. Пластиковый метроном с трещиной на корпусе. На стене – объявление о ремонте проводки, которое ещё не должно было висеть.
Он ставит «контекст» – не ловушки, не насилие, а окружение, которое делает одно решение неизбежным. Помнит, как клал внутрь пистолет, обернув тканью, чтобы металл не бликовал. Рядом – лист с четырьмя строками: «Открой в 00:37. Выгода – жизнь. Промедление – смерть. Он/она вооружён(а).»
00:24 – Рационалист входит первым. Бейдж, как пропуск. Тишина и метроном. 00:33 – появляется Мистичка, и в воздухе уже есть напряжение.
Он помнит даже мелочи: как она поправила край сумки, из которой торчала коробочка с кристаллом; как его взгляд прошёл по её туфлям, отмечая мягкую резиновую подошву, пригодную для тихого шага.
Они оба читают бумажку. Она смотрит на него, он на неё. Два разных мира, но оба уже внутри созданной им рамки.
Воспоминание ускоряется: лишний «тик» метронома, синхронное движение к чемоданчику, пистолет в руке, её полшага назад. Фальшивые «доказательства» в их головах делают остальное.
Выстрел. Он помнит не сам звук, а то, что пришло сразу после: тишину, наполненную осколками. Помнит запах сушёных трав, высыпавшихся из её сумки. И то, как выключал метроном, чтобы убрать этот искусственный пульс из комнаты.
И самое неприятное – взгляд камеры на соседней парковке. Тогда он не был уверен, что она работала. Теперь – не уверен, что она забыла.
Дождь вернул его в настоящий момент. Он уже был в сотне метров от здания полиции. Стеклянный фасад отражал редкие машины, и ему показалось, что в отражении он идёт не вперёд, а назад – обратно в тот вечер.
Он поднял ворот куртки. Сегодня он будет «свидетелем». Но, возможно, это всего лишь новый ход в чужой партии.
В отделение он вошёл неторопливо, как в место, где никогда не был, но точно знает, как оно устроено. Пахло дешёвым моющим средством и мокрой тканью. Пол – серый линолеум с вздутыми пузырями у швов, стены затянуты объявлениями: «Осторожно, мошенники», «Найден паспорт…», «График приёма граждан».
У дежурного за стойкой глаза были усталые, но не пустые – взгляд человека, который за смену видел слишком много лиц, чтобы их запоминать.
– Фамилия, имя, – не вопрос, а механическое действие.
– Кулагин Андрей.
Короткий стук клавиш, щелчок мыши, сканирующий взгляд в экран.
– Третий кабинет, налево по коридору.
Коридор пах табачным перегаром – не от людей, а от стен, в которые вкуривали годами. На пластиковых стульях вдоль стены сидели двое: женщина с папкой документов и парень в спортивной куртке. Женщина держала сумку на коленях, пальцы вцепились в ручки. Парень ковырял ногтем обшивку сиденья, будто хотел найти там тайник. Андрей отметил: у женщины глаза бегают, у парня – нет, значит, она ждёт решения, он – только формальности.
Третий кабинет. На двери – облезшая табличка: старший оперуполномоченный. Внутри – стол, заваленный бумагами, кружка с облупленным рисунком, в пепельнице обломок сигареты. У монитора – мужчина лет сорока с усталым лицом и голосом, в котором слышно «давай без лишнего, у меня работы выше крыши».
– Кулагин? Садитесь.
Андрей сел так, чтобы видеть и дверь, и окно. Опер перебирал папку, не глядя.
– Значит, вы в ночь с тринадцатого на четырнадцатое проходили через район Козлова улица? – прозвучало как утверждение.
– Возможно. Я часто там бываю, – он чуть пожал плечами. – Работа такая.
Опер поднял глаза.
– А чем вы там занимаетесь?
– Диспетчер доставки. Периодически приходится передавать кое-что курьерам, когда те не успевают. – Он сказал «кое-что» с такой интонацией, будто это мелочь, не достойная расспросов.
На стол легла фотография. Размытое ночное изображение с камеры – силуэт в куртке, идущий мимо автостоянки. Лицо не разобрать.
– Это вы?
Андрей наклонился, глядя чуть дольше, чем нужно, как будто проверяет каждый пиксель.
– Может, я. Плохо видно. Куртка похожа, но таких в городе – тысячи.
Опер не торопился убирать фотографию. Пальцем он слегка подвигал её по столу, словно проверял, как Андрей отреагирует на движение, а не на сам снимок.
– Интересно… – произнёс он, и это «интересно» не звучало как комментарий к картинке. – А вот это место знаете?
Новая фотография – вход в подъезд, облупленная краска, лампа под потолком без плафона. Андрей видел этот вход однажды, но тогда он был на другой стороне улицы. Он позволил себе микропаузу – ровно столько, чтобы выглядеть задумавшимся, но не растерянным.
– Мимо проходил, – ответил он. – Там, кажется, магазин рядом?
Опер кивнул, будто подтверждая.
– Магазин… и, как оказалось, место, где любят собираться по ночам.
Андрей чувствовал, что собеседник слегка меняет темп. Это была не просто проверка памяти. Он подводил к чему-то, и нужно было решить – идти навстречу или отводить разговор.
– В ту ночь был дождь, – продолжил он. – Если честно, я просто шёл, не особо смотрел по сторонам.
– А жаль, – в голосе следователя мелькнула сухая ирония. – Может, увидели бы, как один человек избивает другого.
Слово «избивает» прозвучало чуть громче, чем следовало, и Андрей отметил это. Возможно, проверка на эмоциональную реакцию. Он позволил себе короткий вдох, без лишних движений лицевых мышц.
– У меня привычка – не лезть в чужие конфликты, – сказал он, глядя прямо, но не в глаза, а чуть ниже, на уровень скул. – Особенно если уверен, что кто-то уже вызвал полицию.
На стол легла ещё одна фотография. На ней – силуэт в профиль. Размыт, но угадывался изгиб воротника куртки и легкий наклон головы вперёд.
– Всё ещё говорите, что это может быть кто угодно?
Андрей слегка улыбнулся, почти незаметно.
– Если вам нужен ответ «да», то да. Если «нет» – то нет. Тут же, как я понимаю, не угадайка.
Опер вздохнул и закрыл папку, но не сразу, а медленно, позволяя Андрею видеть, что внутри есть и другие материалы. Пальцы его задержались на одном листе, как бы случайно приоткрыв его – ровно настолько, чтобы Андрей успел заметить: распечатка с координатами и временем. Время – 00:37. Тот самый час, что застрял у него в памяти с «планетарного» вечера.
– Ладно, Кулагин, – сказал опер, – если что-то вспомните, звоните.
– А если я вспомню, что я там не был? – бросил Андрей напоследок.
– Тогда нам будет о чём поговорить, – ответил тот, без улыбки.
Выйдя в коридор, он почувствовал, как внутри лёгкая дрожь смешалась с азартом. Они не уверены. Но слишком близко подошли, чтобы это было случайностью.
Дежурный в приёмной уже что-то записывал в журнал. На стене над ним висела старая карта района – и на ней, красным маркером, была отмечена точка в квартале от того самого входа, что был на фото.
Андрей вышел из отделения и дошёл до ближайшего киоска с кофе. Дождь кончился, но асфальт всё ещё держал отражения фонарей. Он достал телефон, открыл поисковик и набрал: планетарий ночь происшествие.
Результатов было немного. Один старый форум, пара ссылок на городские новости годичной давности. Он выбрал новость с сухим заголовком: «Конфликт в здании старого планетария закончился стрельбой».
Текст был предсказуемо схематичным: «…в ночь на 14 августа в закрытом крыле здания произошёл конфликт между двумя посетителями. По предварительной версии, мужчина и женщина оказались в помещении по разным причинам. Свидетели утверждают, что слышали выстрел около 00:40… женщина скончалась на месте… мужчина скрылся… полиция рассматривает несколько версий…».
В конце – два абзаца «человеческого интереса»:
По словам охранника соседнего дома, незадолго до трагедии он заметил на крыше планетария «ещё одного человека», который якобы наблюдал за происходящим. Личность его не установлена. Полиция просит откликнуться очевидцев.
И фото. Размытое ночное зерно: фасад планетария, жёлтый круг фонаря и тёмный проём окна обсерватории. Андрей знал, что в том проёме был он.
Он закрыл вкладку, но пальцы остались на экране чуть дольше – будто хотели вернуться и перечитать.
Год прошёл. Камеры забывают. Но, похоже, не все.
Он убрал телефон и пошёл дальше, уже думая, что это значит для нынешней партии.
Глава 4
В комнате было сухо и тихо, как в ящике для фигур. Часы на стене не тикали – он давно снял батарейку: любой метроном – вмешательство. На столе лежали привычные слои: карты с булавками, распечатки с комментариями к заказам, фотографии входов и крыльев, где люди незаметно меняют скорость шага. Два окна – на колодец-двор, где свет не живёт, а лишь скользит.
Андрей сидел босиком, ладонью касаясь холодного пола – так лучше думалось. На полях свежей схемы – тонкая красная стрелка, уходящая от имени, обведённого в кружок. Имя пока ничего не значило, просто ритм: по понедельникам – магазин, по средам – секция сына, по пятницам – «сам не знаю, когда буду». Такие комментарии – золото.
Он провёл линию к «узлу»: трамвайная развилка, где старые камеры пишут в пустоту. Оттуда – к подъезду, где лампа мигает и звук шагов в бетонном коридоре гулко вырастает. Внизу – квадрат с пометкой «слабое место». Здесь однажды уронили тяжёлую дверь, и до сих пор порог крошится, как подсохшая штукатурка. Порог – значит скорость меняется, значит можно расслоить поток.
Зазвонило.
Не телефон. Дверь. То короткое, настойчивое «дзынь», которым звонят люди, уверенные, что им откроют.
Андрей наклонил листы, закрыл верхний слой, согнал пальцами канцелярские скрепки в аккуратную кучку, поднялся и щёлкнул амбарным замком на внутренней двери. Холод металла успокаивал. Он проверил привычную мелочь: рукав куртки на спинке стула сдвинут ровно на ширину двух пальцев – если кто-то войдёт, увидит порядок и устанет раньше, чем начнёт задавать вопросы.
На пороге стоял Василий – сосед с третьего, бывший прапорщик, нынешний уличный ценитель философии и дешёвой водки. Лицо выбрито криво, глаза свободны от обязательств. В руке – полбутылки с недомытой этикеткой. Часы на руке показывали девять утра; стрелки, казалось, тоже выпили.
– Командир, – сказал Василий с такой уверенностью, будто пришёл из другой комнаты, – жив?
Он вошёл, не дожидаясь приглашения, хлопнул Андрея по плечу ладонью, в которой было больше веса, чем силы, и двинулся прямо на кухню. В пути он успел снять ботинки, не развязывая шнурков, и подцепить взглядом чистую кружку в сушилке.
– Кружки у тебя правильные, – одобрительно кивнул он. – Чайные. Простые. Без этих ваших… рисунков.
Он сел, достал из кармана пятьдесят грамм тишины – паузу, пока Андрей молча достаёт вторую кружку. Водка брызнула чуть мимо, на столе образовался круглый след – как метка на карте, только бесцветная.
– Не чокаясь, – сказал Василий, и поднял кружку двумя пальцами за ободок, как солдат гранату. Выпил, шумно вдыхая через нос.
Андрей сделал глоток – столько, чтобы запах остался во рту, но голова не помутнела. Во вкусе было что-то хозяйственное, как в дешёвом мыле.
– Убогие всё-таки вы люди, – сказал Василий и хихикнул, хлопнув ладонью по столу. – Экспедиционисты… Ни сапог у вас, ни бляхи. Ну давай ещё по одной.
Андрей видел, как шелушится кожа на его пальцах; видел синяк у основания большого пальца – кого-то недавно хватал за ворот. От таких деталей легче не спорить. С Василием спорить вообще бесполезно: любое слово только разгоняет его мысли по кругу, как осенние листья по пустому двору.
Василий налил снова, зацепил краем бутылки кружку, та звякнула о стол.
– Ты чего пришёл? – спросил Андрей, мягко, как спрашивают о погоде.
– Вот странные вы люди, – Василий почесал затылок, будто искал там нужное слово. – Не придумал я… да ладно. У тебя же сегодня день памятный. Ну как памятный… Помянуть надо. Два года прошло. Жена твоя… Наташка. Ой, баба хорошая была. И дочка красавица… Не чокаясь.
Он поднял кружку, и на секунду в кухне стало тесно – словно третья кружка сама влезла между ними, пустая.
Андрей допил. Горло полоснуло, на висках стало тепло. Он выдохнул и почувствовал, как в голове щёлкнуло – как включается лампа в подъезде с задержкой.
Не звуки, не лица – сначала маршрут. Возвращается всегда маршрут.
Он положил ладонь на стол, под пальцами был круглый след от первой порции – ещё не высох. Оконтурил его ногтем. Внутри круга постепенно всплыл вечер, которому уже два года.
Не чокаясь, подумал он. И: если бы я тогда не позвал.
– Зря ты себя съедаешь, командир, – сказал Василий, будто прочитал одно слово из всего предложения. – Жизнь она же… – он пожал плечами. – Случай.
Андрей посмотрел на его рубец над бровью – старый, аккуратный, как шов на белой рубашке. На случай это было не похоже. Случай – это для тех, кто не видит линий.
– Василий, – сказал он, и голос звучал ровно, без чужих слов, – расскажите мне лучше, что слышали последние дни.
– Ох, ты хитёр, – Василий улыбнулся уголком губ, где жили две морщины. – Ну раз пришёл – расскажу. Во дворе вчера крутился лысый на «Киа». Два круга нарезал, потом встал где мусорка, и сидит. Минут десять, не меньше. Глядел. Не курил – руки чистые. И ещё… – он прищурился. – У подъезда третьего – эти, как их, тряпочки повесили с надписью «Осторожно, ремонт». А ремонт-то где? Нет ремонта. Значит, кто-то хочет, чтоб люди ходили не там. Понял, да?
Андрей кивнул. Не потому, что «понял» – потому, что ритм Василия нужно было поставить на место. Он говорил бессвязно, но это «бессвязно» иногда попадало прямо в нерв.
– И ещё. – Василий наклонился, винтом запаха скользнув через стол. – Говорят, твою Наташку в газете тогда писали – «наезд без последствий». Мол, виновата была сама: ребёнка отвлекла, на красный пошли. Хорошо, что я газетам не верю. Газеты для того, чтобы рыбу заворачивать.
Он откинулся на спинку стула и, словно вспомнив, зачем пришёл, снова налил. Лёгкий перехлёст – кружка тут же оставила новый круг на столе, чуть сдвинутый относительно первого. Концентрические линии – как микродиаграмма. Андрей отметил: если их совместить, получится коридор.
Он сделал глоток. На языке осталось металлическое. В такие минуты мысли становились честнее. Показывали, где у них узлы.
Спорить бессмысленно, подумал он. Доказывать – тем более. Он умел быть пустым зеркалом: показывать человеку его же лицо, пока тот не отворачивается.
Василий затих на секунду, и тут же, как по внутренней команде, ожил:
– Убогие вы народ, анонисты, – сказал он уже без смеха. – Ни бабы у вас, ни портянки. Что за люди такие? Лыкаем.
Слово «лыкаем» ударилось о плитку и соскользнуло в раковину. Андрей поставил кружку на стол так, чтобы она легла точно в предыдущий мокрый контур: метка на метку. Мотор памяти запустился – без шума, как электроподъёмник.
– Василий, – сказал он, – спасибо, что пришли.
– На то я и сосед, – Василий встал, коснулся плеча, не глядя, как касается стены в темноте. – Помянем. И ты… это самое… – он махнул рукой, как будто отгонял муху, – не думай лишнего. Мы все вот так, понимаешь? – Он сделал в воздухе резкое, бессмысленное движение – будто ставил мат не на той доске.
Дверь за ним закрылась, ступени на лестнице отыграли свой привычный мотив – тяжёлые, с промежутком в два удара. На площадке кто-то хлопнул дверью – пустой хлопок, как ладонь Василия по столу.
Андрей постоял в коридоре, пока тишина не легла обратно. Потом снял амбарный замок, вернулся к столу и поставил кружку на край карты – там, где тонкая красная стрелка уходит к «узлу». След вытянулся в овал, будто показывая время.
Два года – это не память. Это песок. Его нельзя вернуть в верхнюю колбу. Но можно отследить, как он ссыпался.
Он сел и раскрыл тетрадь. На полях – привычные знаки, почти короткая стенограмма чужих жизней. Внутри – сегодня – один вопрос: если бы я тогда не позвал.
Ответа не было. И не будет. В таких уравнениях «если» всегда равно «никогда». Но в них можно найти константы: скорость, свет, центр тяжести. Он заполнял пустые клетки ими, как кто-то заполняет пустоту молитвами.
Новый лист. Заголовок короткий: «День +730». Ни «годовщин», ни «скорбей» – просто дата. Ниже – линия из трёх штрихов: маршрут от дома до ресторана. Насечки – где стояли ларьки, где – светофор, где люди ускоряются к горячим пирожкам. Он ткнул карандашом в перекрёсток, который тогда решил всё, и повёл стрелку к краю листа. В конце стрелки – маленький квадрат, обозначающий машину.
Не марка – а поведение: скорость скачкообразная, под углом, поворот взят остро. Так ездят те, кто верит в собственную неприкосновенность. Кто знает, что доску всегда можно развернуть лицевой стороной к себе.
Он остановился. Закрыл глаза. В темноте всплыло лицо дочери – не целиком, а фрагментами: ресницы, которые собирали пыль на ветру; тёплый затылок, пахнущий яблоком. Он не любил такие кадры: в них нет линии, только удар. Но иногда и удар полезен – от него слышнее пульс.
В кармане вибрировал телефон – коротко, один раз. Не номер, а уведомление от корпоративной системы: «Изменение статуса: курьер №… задержка по маршруту». Он не стал открывать. Пульс должен стихнуть.
На кухне, на столе, высыхали два круглых следа. Один входил в другой. Если бы посмотреть сверху, они были бы похожи на срез дерева – кольца, по которым считают возраста. По ним можно было бы и считать расстояние – от вечера до сегодняшнего утра.
Андрей вынул из ящика песочные часы с матовым стеклом – те самые, что переворачивал перед «партиями». Посмотрел на них секунду и поставил обратно. Сегодня они не нужны. Сегодня песок – в голове.
Он перевёл взгляд на карту города. Вверху – диаграмма старой партии Морфи, та, где жертва на 17-м ходу делает всю конструкцию неизбежной. Он провёл пальцем по тонкой нитке и поймал себя на странной мысли: иногда жертва случается задним числом – просто мы не успели её заметить.
Телефон снова мигнул – на этот раз звонок. Номер высветился «неизвестный», но голос был знакомым только по интонации: сухой, офисный, такой, как у людей, которые говорят «по поводу». Он не взял – дал звонку уйти сам.
Затем ещё раз. И тишина.
Он вернулся к тетради и начал заново: «День +730». Подчеркнул. И написал: «Помянуть – значит зафиксировать». Ему не нужны были свечи. Ему нужна была схема. Схема – это способ не дать песку снова пересыпаться.
Он встал, прошёлся до окна и посмотрел вниз, в колодец. Там кто-то сушил бельё на верёвке, и белая простыня вздрагивала на ветру, как флаг сдачи. Он подумал, что люди любят простыни – их можно постирать. Дороги – нет.
Вернувшись, он включил ноутбук. На экране – тёмный рабочий стол, в углу – значок корпоративной системы. Он не запускал её. Вместо этого открыл папку «Черновики» и файл с названием, которое ничего не объясняет: «Внедрение_Т». Внутри был только список «источников шумов»: домовые чаты, дворовые аудиосообщения, объявления на подъездах, телефоны «не для связи» из комментариев к заказам. Он поставил рядом новое слово: «Василий». И коротко: «Киа. Лысый. Мусорка. 2 круга». Не потому, что верил, – потому что проверяет всегда всё.
Над столом шумно прошёл грузовик. Дом дрогнул. На секунду показалось, что линия на карте тоже дрогнула, сдвинув «узел» на полсантиметра. Он подвинул булавку обратно, будто выравнивал уровень.
И только тогда позволил себе слово, которого избегал два года: поминки. Он не произнёс его вслух. Просто открыл рот и вдохнул. Запах кухни был чужим – водка отдала спиртом, а дерево стола – сыростью. Запах прошлого в настоящем всегда пахнет складом.
Он провёл ладонью по столу, стирая два высохших круга. И увидел, что третий – от кружки Василия – всё ещё живёт, чуть блестит на свету. В центре его отражалась лампочка, и казалось, что круг светится изнутри.
– Хорошо, – сказал он себе, – начнём отсюда.
Он поставил карандаш на лист и повёл стрелку от квадрата-ресторана к перекрёстку. Тонкая линия дрогнула, как дрожит память, если тронуть её слишком резко.
В тот день он выбрал столик у окна – хотел, чтобы Наташа увидела огни города. Пятилетняя дочь в это время играла салфеткой, сворачивая её в куклу. Всё выглядело правильно, даже празднично. Он заказал десерт, которого никогда раньше не заказывал: торт «Прага».
Если бы мы пошли пешком обратно, – подумал он сейчас, – они бы жили.
Но он позвал такси. Хотел, чтобы им было удобно. Такси не приехало. Они пошли через перекрёсток.
Он отметил на схеме маленький красный кружок: точка пересечения.
Машина появилась как ход ферзя: с краю доски, но сразу в центр. Чёрный седан депутата – с мигалкой на приборке, без включённых фар. Удар был сухим, не визг шин, а звук металла о мягкое. Он помнил не крик, а то, как белая салфетка, свернутая дочкой, улетела под машину.
Дальше началась партия не его.
Первый ход сделали в приёмном покое. Врачи шептались: «сложные травмы», «без шансов». Он вцепился в край стола, чтобы не упасть. Ему сказали «держитесь», будто это могло помочь.
Второй ход сделали в кабинете следователя. Тот говорил устало, как будто у него не смерть, а очередная «административка».
– Камеры на перекрёстке были в ремонте, запись не сохранилась.
Он сказал это ровно, даже слишком ровно – будто заранее выучил текст.
Третий ход – свидетель. Таксист, что стоял в двух метрах, написал заявление, а через день его «отозвал». Сказал, что «плохо видел, дождь».
Четвёртый ход – газета. Короткая заметка: «Женщина с ребёнком переходили дорогу на красный сигнал. Водитель не успел затормозить». Ни фамилии водителя, ни упоминания мигалки.
Пятый ход – суд. Вернее, его отсутствие. «Нет состава преступления». Сухая формулировка, которая звучала хуже приговора.
Он перелистывал тетрадь и на каждой странице делал маленькие метки: «камера», «свидетель», «газета», «суд». Получалась цепочка – как фигуры, выстроенные для атаки. Но это была чужая комбинация.
Они сняли с доски моих, не сделав ни одного честного хода.
Андрей вспомнил депутата: широкое лицо, без эмоций, глаза, которые не смотрят на людей, а скользят по ним, как по мебели. Тот вышел из здания полиции, прикурил и поехал дальше. Всё.
С этого дня город перестал быть для Андрея живым. Он стал доской. Люди – фигурами. Камеры, газеты, суды – фигурами против него. И если тогда его партию проиграли без него, то дальше он решил: больше – никогда.
Он вернулся к карте. Нарисовал новый знак: чёрный крест на месте аварии. Соединил его линией с именем депутата в папке, где лежали старые вырезки.
Но крест он нарисовал не как мишень, а как напоминание: иногда ход делают не потому, что он лучший, а потому что он возможен.
Телефон снова мигнул. Теперь это был не корпоративный софт, а личное уведомление: в одном из дворов, отмеченных жёлтой булавкой, сменили расписание уборки. Андрей посмотрел на экран и усмехнулся.
Даже расписание дворников – часть доски. Всё, что двигается, можно вплести в партию.
Он перевёл взгляд на песочные часы. Песок стекал медленно, но неизбежно.
И он понял: убивать сегодня необязательно. Гораздо важнее – показать фигурам, что они уже стоят на нужных клетках.
В комнате снова воцарилась тишина. На столе остались три следа от кружек – один высох, другой расплылся, третий ещё блестел. Андрей пальцем провёл по самому свежему, размазал каплю и оставил тонкую линию на карте города.
В папке с вырезками он нашёл старую газету. Заголовок: «Наезд без последствий». Он читал её сотни раз, но сегодня впервые ножницами вырезал фамилию. Маленький прямоугольник бумаги лёг под булавку на карте – в тот самый квадрат, где он уже нарисовал крест.
Рядом прикрепил обрывок из другой папки: копию объявления с предвыборным лозунгом двухлетней давности. Шрифт был характерный, слишком узнаваемый. Он соединил их тонкой красной нитью. Схема выглядела бессмысленной, но в ней уже была логика: нитка тянулась через кварталы и улицы, будто сама прокладывала будущую версию следствия.
Он достал из коробки мелких «трофеев» старый телефон, на задней крышке которого ещё читался полустёртый стикер: «Р. Гордеева». Девичья фамилия жены депутата. Когда-то она оставила его в заказе доставки, записав как «телефон для связи». Он положил его рядом с газетным вырезком и обвёл в тетради овалом. Подписал: «Ферзь».
Линии складывались сами собой. Каждая новая комбинация, которую он планировал, теперь имела двойной смысл: для жертв – случайность, для следствия – отпечаток чужих рук. Он не собирался скрываться. Наоборот: он готовил пространство так, чтобы вся дорога вела к одному дому.