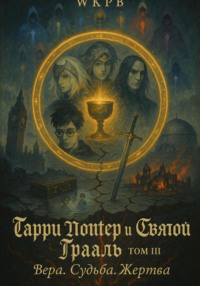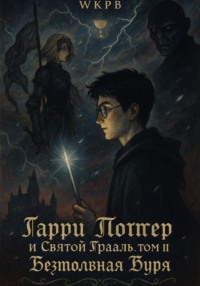Полная версия
И она поняла.
Это не было вторжением. Это было… слиянием. Что-то, что жило в нем, теперь жило и в ней. Оно не разрушало ее. Оно прорастало сквозь нее, как плющ сквозь трещины в статуе. Оно использовало ее генетический страх перед неврологией, ее скрытые слабости, чтобы создать свой уникальный, персональный шедевр ужаса.
Она отшатнулась от зеркала. Ее дыхание срывалось. Она посмотрела на свои руки. На свои пальцы, которые так точно управлялись с микроскопом и пробирками. Но теперь они были не ее. Они были инструментами. Инструментами чего-то другого.
Она была не просто больна.
Она стала инкубатором. Лабораторией. Идеальной средой для сотворения нового, неизвестного вида кошмара.
***
Кабинет доктора Хауса превратился в штаб проигранной войны. Воздух был наэлектризован от бессонницы, кофеина и тихого, интеллектуального отчаяния. Доска, стены, даже стеклянные перегородки были покрыты медицинскими картами, распечатками анализов, графиками и диаграммами. Это была отчаянная попытка наложить сетку логики на реальность, которая, казалось, сошла с ума.
Хаус не отгораживался от хаоса. Он погрузился в него с головой, пытаясь найти тот единственный, объединяющий паттерн. Он работал с яростью человека, пытающегося собрать воедино разбитое зеркало, каждый осколок которого отражал свою, искаженную версию кошмара.
– Это бессмыслица! – прорычал он, швыряя на стол папку. – Бухгалтер с печеночной недостаточностью, студентка с афазией, семья с ARDS! Нет никакой связи! Возраст, пол, район проживания, группа крови – ничего! Это не эпидемия. Это, мать его, божественное проклятие, ниспосланное в алфавитном порядке!
Его команда была так же измотана. Они разделили город на сектора, составили карты контактов, проанализировали пробы воды и воздуха. Они искали токсин, загрязнитель, источник. Но источника не было. Казалось, болезнь рождается спонтанно, из самого воздуха.
В центре этого урагана данных, как тихий, неподвижный глаз бури, лежал «Архитектор». Он был отдельной, неразрешимой проблемой. Его уникальные, симметричные симптомы не совпадали ни с одним из сотен других случаев. Он был аномалией внутри аномалии.
– Они не связаны, – твердил Форман, указывая на два разных списка на доске. – Здесь, – он обвел группу «эпидемия», – мы имеем дело с агрессивным, полиморфным патогеном. А здесь, – его палец остановился на имени «Джон Доу», – с чем-то совершенно другим. С какой-то формой нейротоксина или генетического сбоя. Пытаться связать их – это как искать общую причину для автокатастрофы и падения метеорита.
Хаус слушал его, но его разум был в другом месте. Он был зациклен на последнем сообщении «Архитектора».
Хр-хр… хррр…
«U».
Он не мог отбросить эту загадку. Он чувствовал, инстинктом хищника, что это не просто еще один фрагмент пазла. Это был ключ к шифру, который объяснял все. Но он не мог найти замок.
– Оставь их, – бросил он Форману. – Ты прав. Это разные войны. Вы – занимайтесь пехотой. Я буду допрашивать их генерала.
Это не было высокомерием. Это было отчаянием. Он разделил проблему, потому что не мог охватить ее целиком.
Вечером к нему пришла Кадди. Она не стала говорить о переполненных моргах и нехватке аппаратов ИВЛ. Она знала, что цифры его больше не трогают.
– Реми, – тихо сказала она. – Тринадцатая. Сегодня утром она проводила люмбальную пункцию. И промахнулась. Трижды. Она никогда не промахивается.
Хаус замер. Его пальцы, подбрасывавшие мячик, сжались в кулак.
– Усталость, – отрезал он, не глядя на нее.
– У нее тремор в левой руке, Грегори, – продолжила Кадди. – И афазия. Вчера она не могла вспомнить слово «скальпель».
Он молчал. В тишине кабинета было слышно, как гудят лампы.
– Это тот же шум, что и снаружи, – наконец сказал он, но в его голосе уже не было прежней уверенности. – Просто еще одна случайная, жестокая вспышка.
– А что, если это не шум? – спросила Кадди. – Что, если все это – одна песня? И «Архитектор», и сотни людей в коридорах, и Тринадцатая. А мы просто слышим разные ее части и не можем понять мелодию.
Она ушла, оставив его одного с этой мыслью. Мыслью, такой же чудовищной и невозможной, как сама болезнь. Он посмотрел на свою доску. На два разных списка, на две разные войны.
А что, если это не две войны?
Что, если это одна? И они уже проигрывают ее на всех фронтах, потому что даже не поняли, кто их враг?
Он подошел к стеклянной стене, за которой умирали люди. Он посмотрел на хаос. И впервые за все это время он почувствовал не интеллектуальный азарт.
Он почувствовал страх. Страх того, что враг, которого они ищут, не просто умен.
Он невидим.
***
Эрик Форман верил в данные. В его мире у каждой болезни, у каждой эпидемии был свой почерк, своя математика. Скорость распространения, инкубационный период, демографический профиль жертв – это были переменные в уравнении, которое всегда имело решение. Нужно было просто собрать достаточно данных.
Последние 48 часов он не спал. Он превратил один из конференц-залов в военный штаб. Стены были увешаны картами Принстона, испещренными цветными флажками. Каждый флажок – новый случай. Красный – респираторная форма. Синий – неврологическая. Желтый – печеночная.
Карта напоминала абстрактную картину, бессмысленную и яростную. Флажки появлялись без всякой логики. Не было кластеров. Не было эпицентра. В одном и том же доме могли жить два человека: один умирал в агонии, а второй был абсолютно здоров. Болезнь не распространялась от человека к человеку, как грипп. Она, казалось, просто материализовалась из воздуха в случайных точках.
– Это не работает, – сказал он Таубу, который помогал ему вносить новые данные. Тауб выглядел как призрак – бледный, с запавшими глазами, но его руки, наклеивающие новые флажки на карту, были на удивление твердыми.
– Может, мы ищем не тот источник? – предположил Тауб, отступая от карты. – Не биологический. Может, это что-то в воде? Или в еде? Какая-то партия продуктов с токсином.
Они потратили шесть часов, проверяя эту теорию. Они подняли все накладные городских супермаркетов, сверили поставки, опросили семьи жертв. Ничего. Одни ели органические овощи, другие – дешевые консервы. Одни пили бутилированную воду, другие – из-под крана. Никакой связи.
Форман сидел, уставившись на карту. Он чувствовал, как его мир, построенный на логике и порядке, рушится. Его опыт, его знания, полученные в CDC, – все это было бесполезно против врага, который не играл ни по каким правилам.
– Мы задаем не те вопросы, – сказал он, скорее себе, чем Таубу.
Он подошел к другой стене, где висели фотографии жертв. Он начал вглядываться в их лица, читать их краткие биографии. Учительница музыки. Водитель-дальнобойщик. Программист. Библиотекарь. Что их объединяло?
Ничего.
И в то же время…
Он вдруг заметил странную, почти мистическую деталь. Учительница музыки, страдавшая астмой, умерла от жесточайшей пневмонии. Водитель, у которого в анамнезе были две черепно-мозговые травмы, – от отека мозга. Программист, лечившийся от гепатита B в юности, – от отказа печени.
– Тауб, – позвал он, и в его голосе прозвучала новая, пугающая нота. – Принеси мне полные, подробные истории болезней первых двадцати жертв. Не краткие выжимки. Все. Каждую простуду, каждую прививку, каждый перелом.
Он еще не знал, что ищет. Но он чувствовал, что стоит на пороге чего-то. Чего-то настолько чудовищного, что его разум отказывался это принять. Он думал, что составляет карту эпидемии. А на самом деле, он, сам того не зная, начал составлять карту чьего-то крайне жестокого, извращённого замысла.
Он чувствовал себя картографом, которого попросили нарисовать карту нового, неизвестного континента, но вместо земли под ногами он нащупывал лишь холодную, пульсирующую плоть чего-то живого.
***
Крис Тауб не верил в безличный хаос. Он верил в человеческие секреты. За каждой катастрофой, учил его опыт, всегда стояла тайна, которую кто-то отчаянно пытался скрыть.
Лоуренс Катнер, напротив, верил в невероятное. Для него отсутствие логики было не тупиком, а приглашением к поиску новой, более причудливой логики.
Эта пара – скептик и мечтатель – вела свою собственную войну, роясь не в медицинских картах, а в мусоре чужих жизней.
– Забудь о симптомах, – сказал Тауб Катнеру, когда они сидели в пустой ординаторской, пахнущей холодным кофе и бессонницей. – Симптомы – это дым. Ищи поджигателя.
Они начали с самого начала, с того, что Форман счел статистической погрешностью – с пожилой женщины, Агнес Миллер, умершей от «скоротечной пневмонии» за день до того, как ад разверзся. Официально ее случай не был связан с эпидемией.
– А что, если был? – предположил Катнер. – Что, если она – трещина в плотине, которую никто не заметил?
Они начали копать. Тауб, используя свои таланты, получил доступ к ее банковским счетам, истории браузера, телефонным звонкам. Катнер, обаятельный и простодушный, говорил с ее соседями, почтальоном, продавцом из углового магазина.
Портрет, который они нарисовали, был портретом одиночества. Но в нем были две аномалии. Первая – серия странных звонков с заблокированных номеров за месяц до ее смерти. Вторая, которую раскопал Катнер, была еще более странной. Соседка вспомнила, что Агнес в последние недели стала одержима чистотой. Она постоянно мыла окна, заказывала промышленные фильтры для воды и воздуха.
– Она говорила, что воздух в городе стал «грязным», – рассказала соседка. – Что она чувствует в нем что-то. Мы думали, это просто старческая паранойя.
– Паранойя? Или она что-то знала? – пробормотал Тауб. Он пробил компании, поставлявшие фильтры. Одна из них, «Bio-Gen Purifiers», была крошечной фирмой с одним сотрудником и без реального адреса. Фикцией.
– Итак, – сказал Катнер, и его глаза загорелись. – У нас есть пожилая женщина, которая внезапно начинает бояться воздуха. Ей звонят с секретных номеров. А потом она умирает от болезни, поражающей легкие. Что, если она была случайным свидетелем?
– Свидетелем чего? – спросил Тауб.
– Выброса. – Катнер вскочил. – Где-то в городе есть лаборатория. Частная, секретная. Они работают с какой-то дрянью. Произошла утечка. Небольшая. Агнес Миллер жила рядом, она стала первой жертвой. А теперь они пытаются скрыть это, создав еще десятки, сотни «случайных» очагов по всему городу, чтобы замаскировать первоначальный источник. Распыляют вирус с дронов, через вентиляцию в метро… как угодно!
Теория была дикой. Но она была логичной. Она объясняла географический хаос. Она объясняла паранойю первой жертвы.
Они принесли ее Хаусу. Он выслушал их, не перебивая, его лицо было непроницаемым.
– Заговор. Распыление вируса с дронов. Прекрасно, – сказал он, когда они закончили. – Звучит как сценарий для фильма, в котором снялся бы Николас Кейдж. Но у вашей стройной теории есть одна проблема.
Он повернулся к доске.
– Зачем? Если у вас произошла утечка, и вы хотите ее скрыть, вы не устраиваете чуму по всему городу. Вы изолируете и сжигаете первоначальный очаг. Вы не разбрасываете улики. Вы их уничтожаете. Ваша теория не просто нелогична. Она глупа.
Тауб и Катнер сникли.
– Но, – продолжил Хаус, и в его голосе появилась новая нотка, – мне нравится направление вашей мысли. Вы единственные, кто ищет не «что», а «кого». Вы ищете замысел. Ваша теория – бред, но это структурированный, организованный бред. А это значит, что вы, в отличие от Формана, который пытается сосчитать капли в океане, по крайней мере, поняли, что мы имеем дело с дождем, который кто-то включил намеренно.
Он посмотрел на них, и его взгляд был острым, как скальпель.
– Забудьте про дроны. Это для идиотов. Ищите деньги. Ищите мотив. Кто выигрывает от того, что целый город превращается в гигантскую чашку Петри? Ищите вашу подставную фирму «Bio-Gen Purifiers». Ищите, кому она принадлежит. Копайте. И когда докопаетесь до Австралии, продолжайте копать.
Он выгнал их, но он дал им нечто большее, чем одобрение. Он дал им новое направление. Он отсек глупую часть их теории, но оставил ее ядро – идею о злом умысле.
Тауб и Катнер вышли из кабинета, обескураженные и в то же время воодушевленные. Их охота на призраков только что получила благословение главного экзорциста больницы. Они еще не знали, что ложный след, на который они напали, был не тупиком.
Это была одна из многих, искусно проложенных дорог, ведущих в самый центр лабиринта.
***
Конференц-зал, который Форман превратил в свой штаб, стал похож на мозг, умирающий от перегрузки. Карты, графики, фотографии, отчеты – все это было не информацией, а белым шумом, визуальным криком отчаяния. Форман сидел в центре этого хаоса, глядя в одну точку на экране своего ноутбука. Он не спал уже шестьдесят часов, и реальность для него истончилась, стала похожа на пергамент. Но он нашел. Среди тысяч бессмысленных переменных он нашел одну константу. Одну-единственную.
Он ворвался в кабинет Хауса без стука.
В кабинете было все его расколотое на части королевство. Хаус, как безумный король, сидел у своей доски, на которой была лишь одна буква «U». Тауб и Катнер, вернувшиеся с очередной бесплодной вылазки, спорили в углу о подставных фирмах и теориях заговора. А у окна, бледная как призрак, стояла Тринадцатая, пытаясь скрыть дрожь в левой руке.
– Это не хаос, – выдохнул Форман. Все обернулись. Его голос был странно спокоен, и от этого спокойствия веяло безумием. – У него есть ритм.
Он подключил свой ноутбук к главному экрану. На нем появился график. Простая, элегантная кривая, показывающая время от появления первого выраженного симптома до наступления критического состояния у сотни разных пациентов.
– Гепатит. Энцефалит. Пневмония. У них у всех разные болезни. Но они все умирают с одной и той же скоростью, – сказал Форман, указывая на почти идеальную линию. – Семьдесят два часа. Плюс-минус полтора процента. С математической, безжалостной, неестественной точностью.
Тишина в кабинете стала абсолютной. Теория заговора Тауба и Катнера, до этого казавшаяся бредом, вдруг обрела страшный вес. Случайная эпидемия не могла быть такой точной. Это была не природа. Это был механизм. Часовой механизм, заведенный чьей-то рукой.
– Подпись, – прошептал Тауб. – Это как подпись серийного убийцы.
Хаус медленно встал. Он подошел к экрану. Он смотрел не на график. Он слушал его. Он слышал этот ритм. Ритм, который был до ужаса похож на тот, что он слышал в предсмертном хрипе своего «Архитектора».
И в этот момент его разум взорвался.
Все осколки разбитого зеркала, которые он так долго пытался собрать, вдруг сами собой сложились в единую картину.
– Нет, – сказал он, и его голос был едва слышен. – Это не подпись убийцы. Это подпись архитектора.
Он бросился к своей доске. Он схватил маркер.
– Вы все идиоты! Я идиот! Мы пытались решить две разные загадки! – кричал он, лихорадочно рисуя на доске. – Но это одна загадка! Одна!
Он нарисовал два круга. В одном написал «АРХИТЕКТОР. ИДЕАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ». В другом – «ЭПИДЕМИЯ. ИДЕАЛЬНЫЙ ХАОС». И соединил их стрелой.
– Вы не понимаете? Это не две разные болезни! Это одна и та же мелодия, сыгранная на разных инструментах! Наш «Джон Доу» – это чистый сигнал! Идеально здоровый организм, который вирус атаковал по всем фронтам сразу, потому что не нашел ни одной слабости! Он показал нам всю партитуру целиком! А все остальные… – он обвел рукой, указывая на воображаемый город за стеной, – …это тот же сигнал, но пропущенный через фильтры их генетических дефектов, их старых болезней, их личных демонов!
Он повернулся к ним. Его глаза горели.
– Этот вирус – не оружие! Он хуже! Он, мать его, – диагност! Он находит трещину в вашей душе и бьет именно туда! Поэтому бухгалтер умирает от отказа печени, а студентка-отличница – от энцефалита! Он не убивает вас. Он заставляет вас убить самого себя!
Осознание обрушилось на них, как тонна кирпичей. Весь хаос, вся бессмыслица последних дней вдруг обрела стройную, чудовищную, дьявольскую логику.
Именно в этот момент, в пик этого ужасающего прозрения, Тринадцатая, стоявшая у окна, издала тихий, сдавленный стон.
Она покачнулась. Ее лицо исказилось от боли и удивления.
– Я… я не могу… – прошептала она.
Она посмотрела на свою левую руку, которая вдруг начала сама собой сгибаться и разгибаться в жутком, неконтролируемом спазме. Хорея. Классический симптом Хантингтона.
Она подняла на Хауса глаза, полные ужаса. Она хотела что-то сказать, но вместо слов из ее горла вырвался лишь нечленораздельный звук. Афазия.
Вирус, дремавший в ней, услышал ее самый большой страх. И он сыграл на нем, как на скрипке.
Она рухнула на пол.
Кошмар перестал быть теорией на доске. Он обрел имя. Он обрел лицо. И он только что нанес свой удар в самом сердце их комнаты.
Минотавр перестал дышать в спину. Он взял их за горло.
Глава 3. Остров Проклятых
Падение Тринадцатой было звуком захлопнувшейся двери. Они не сразу это поняли. Первые несколько минут были наполнены контролируемым хаосом – тем, что врачи умеют лучше всего. Катнер и Тауб бросились к ней. Форман отдавал четкие, резкие приказы, его голос был скальпелем, отсекающим панику. Хаус стоял в стороне, его лицо было непроницаемой маской, но в глазах плескался ледяной огонь. Он смотрел, как они укладывают ее на импровизированную кушетку, как подключают датчики. Он видел не свою коллегу. Он видел перед собой новое уравнение. Более сложное. Более личное. Бесконечно более важное.
Осознание пришло, когда Форман, закончив первичный осмотр, попытался вызвать реанимационную бригаду. Он нажал кнопку на селекторе.
Тишина.
Он нажал снова.
– Связь не работает, – глухо сказал он.
Тауб достал свой мобильный.
– Нет сети. Совсем.
Они посмотрели друг на друга. И холод, до этого бывший лишь метафорой, стал физическим. Он пополз по спине, забираясь под халаты.
– Кадди, – сказал Хаус.
Они бросились в ее кабинет. Она сидела за своим столом, бледная, глядя на несколько экранов одновременно. На одном – помехи. На другом – короткое сообщение, повторяющееся снова и снова: «СВЯЗЬ ОГРАНИЧЕНА. ПРОТОКОЛ «ЭГИДА». ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТАХ».
– Что такое «Эгида»? – спросил Тауб.
– Это протокол CDC высшего уровня, – ответила Кадди, не отрывая взгляда от экрана. – Он активируется при угрозе биотерроризма. Он полностью отрезает очаг заражения от внешнего мира. Никакой связи. Никакой информации. Никакого выхода.
– Они заперли нас, – прошептал Катнер.
– Они не просто заперли нас, – сказал Хаус, подходя к окну. – Они стерли нас.
Он указал на улицу. Двор больницы, еще час назад полный машин «Скорой помощи» и паникующих людей, был пуст. Абсолютно пуст. По периметру, на расстоянии ста метров, стояли армейские грузовики без опознавательных знаков. Не солдаты. Не полиция. Люди в черной униформе, с лицами, скрытыми за темными стеклами шлемов.
– Кто это? – спросил Форман.
– Это те, кого вызывают, когда CDC уже не справляется, – ответил Хаус. – Это «чистильщики». Они здесь не для того, чтобы нас спасать. Они здесь для того, чтобы, если мы не найдем решение, сжечь этот остров дотла вместе со всеми, кто на нем находится.
Атмосфера в кабинете стала удушающей. Они были не просто в карантине. Они были в могиле, в которую еще не начали кидать землю. Их мир сузился до этих нескольких этажей. Их время было ограничено не только скоростью вируса, но и терпением людей в черном за окном.
Они перенесли Тринадцатую в изолированный бокс, тот самый, что был рядом с «Архитектором». Теперь у них было два эпицентра, разделенных стеклом. Живой и мертвеющий. Ученик и создатель. Она лежала, подключенная к аппаратам, ее тело сотрясали мелкие судороги. Вирус, получив доступ к ее страхам, теперь играл с ее нервной системой, как кошка с мышью.
Команда собралась в диагностическом кабинете. Шок прошел. На его месте была холодная, свинцовая ярость.
– Тауб, Катнер, – голос Хауса был как щелчок кнута. – Ваша теория заговора. Она больше не бред. Она – наша единственная рабочая версия. Утечка. Корпорация, заметающая следы.
– Но кто? – спросил Тауб. – Наша фирма-пустышка «Bio-Gen» никуда не ведет.
– Значит, копайте глубже! – рявкнул Хаус. – Взломайте все, что сможете. Налоговую, патентное бюро, серверы Пентагона, если понадобится! Ищите не имя. Ищите паттерн. Ищите другие такие же фирмы-пустышки. Ищите того, кто платит за всю эту тишину.
– А мы? – спросил Форман.
Хаус повернулся к нему.
– А мы займемся самым главным. Мы должны понять замысел архитектора. Он создал этот лабиринт. Значит, он знает из него выход. Антидот. Противоядие. Где-то в его работе, в его прошлом, в его умирающем мозгу есть ключ.
Он посмотрел на стеклянную стену, за которой лежали два его пациента.
– И у нас очень мало времени, чтобы его найти. Потому что монстр больше не ждет в центре лабиринта. Он уже здесь. Он сидит с нами в одной комнате. И он очень, очень голоден.
***
Осознание того, что они заперты, было не похоже на удар. Оно было похоже на медленное погружение в ледяную воду. Воздух в кабинете Кадди стал разреженным, трудным для дыхания. Протокол «Эгида». Два слова, которые превратили больницу в саркофаг.
Катнер, движимый не надеждой, а инстинктом загнанного в угол зверя, бросился к ближайшему компьютеру.
– Внутренняя сеть, – пробормотал он, его пальцы уже летали над клавиатурой. – Они не могли ее отключить. Мы должны видеть, что происходит.
Он обошел защиту администратора с легкостью, рожденной отчаянием. На главном экране, как окна в ад, вспыхнула мозаика из десятков беззвучных изображений с камер наблюдения.
Первое, что они увидели, был главный коридор первого этажа.
Он больше не был коридором.
Он стал рекой. Медленной, густой, почти неподвижной рекой из каталок, поставленных так плотно, что между ними едва мог протиснуться человек. Каталки стояли в три, а местами, у поворотов, и в четыре ряда. На них лежали люди. Не пациенты. Просто тела. Некоторые были накрыты простынями, некоторые нет. Они лежали в странных, застывших позах, глядя в потолок невидящими глазами.
Посреди этой реки, по узким протокам, двигались те, кто еще был жив. Врачи и медсестры. Их движения были медленными, почти ритуальными. Никакой спешки. Никакой паники. Это было похоже на замедленную съемку кошмара. Вот медсестра, которую Тауб смутно узнавал, наклоняется к каталке. Она не проверяет капельницу. Она просто закрывает глаза лежащему человеку. Потом выпрямляется. И идет дальше.
Форман смотрел, не отрываясь, на эту картину. Он, человек протоколов и систем, видел перед собой абсолютный коллапс системы. Это было не отделение неотложной помощи. Это был сортировочный пункт, где сортировать уже было некого.
– Переключи, – тихо сказала Кадди. Ее голос был хриплым.
Катнер переключил на камеру в приемном отделении.
Оно было пустым. Двери, ведущие на улицу, были забаррикадированы изнутри горой из каталок, стульев и медицинских шкафов. У этой баррикады, как часовые у ворот осажденной крепости, стояли два охранника. Они смотрели на стеклянные двери, за которыми, под дождем, виднелись темные, неподвижные силуэты. Люди, которых не пустили внутрь.
– Они запечатали вход, – прошептал Тауб. – Они запечатали вход, чтобы умереть в одиночестве.
Никто не произнес ни слова. Они просто смотрели. Они видели не просто переполненную больницу. Они видели цивилизацию в миниатюре, которая, столкнувшись с непостижимым ужасом, начала пожирать саму себя. Она не боролась. Она просто… останавливалась.
Хаус стоял позади всех, его лицо было непроницаемым. Он не видел хаоса. Он видел порядок. Другой, чужеродный порядок, который накладывался на их привычный мир, как погребальный саван. Он еще не знал, кто автор этого порядка. Но он видел его почерк. Безжалостный. Элегантный. Совершенный.
Он ничего не сказал. Он просто смотрел, и в его мозгу, впервые за все это время, зародилось подозрение. Подозрение настолько чудовищное, что он сам испугался его. Подозрение, что «Архитектор» в реанимации и этот ужас в коридорах – это не две разные проблемы.
Это одно и то же.
– Дальше, – голос Кадди был едва слышен, но в нем была сталь. Она заставляла себя смотреть. Заставляла их всех быть свидетелями.
Палец Катнера завис над списком камер. Он колебался, словно боялся того, что они могут увидеть. Потом нажал.
«Столовая для персонала. Зона А».
Изображение на экране сменилось. На мгновение они не поняли, на что смотрят. Это была знакомая, залитая светом комната, где они сотни раз пили кофе и жаловались на жизнь. Но теперь она была другой. Преображенной.
Столы, за которыми они обедали, были сдвинуты в длинные, ровные ряды, как в пиршественном зале средневекового замка. Они были накрыты белоснежными простынями, которые свисали до самого пола. Но под простынями были не тарелки. Под ними угадывались неподвижные, вытянутые формы.