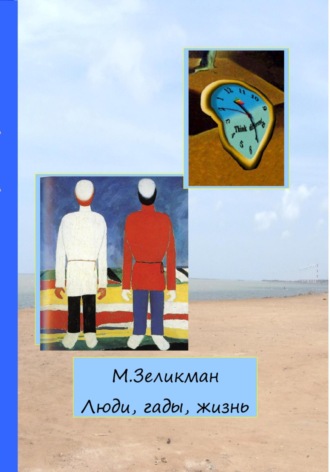
Полная версия
Люди, гады, жизнь
Оказалось, что проходной балл даже на вечерний был 24 из 25 (на дневной тоже). Мы-то об этом даже не волновались, мы же на физфак поступали, что нам вечерний Политех? У меня получилось 25 баллов, у Боба – 24. Оба зачислены.
Идем в деканат дневного: «Вот наши медали, вот наши дипломы, вот мы сдавали в Пед, вот мы сдавали здесь на вечерний. Возьмите нас на дневной.» Отвечают: «Что вы, ребята, так нельзя. Приходите после первой сессии, может быть, переведем на дневной». Уходим. Учимся. Сдаем сессию на 2 недели раньше срока, все пятерки у обоих. Снова приходим на дневной с теми же аргументами плюс итоги сессии. Возьмете на дневной? Отвечают: «К сожалению, изменились правила перевода, теперь в течение учебного года переводить нельзя. Приходите после летней сессии». Нельзя так нельзя, мы потерпим до лета. Непонятно, правда, почему кого-то переводят, а нас нельзя. Летнюю сессию сдали на месяц раньше. Все пятерки. Снова идем к замдекана с той же просьбой. И ответ тот же. Нельзя. У меня дядя в это время приезжал из Минска, персональный пенсионер всесоюзного значения. Надел он все свои регалии и пошел к декану, рассказал о проблеме своего племянника. А декан ему и говорит: «Пусть ваш племянник не дергается и учится спокойно на вечернем. Может, он на дневном и не потянет. Знаете, сколько людей так себе судьбу сломало?»
В общем, поняли мы с Бобом, что ничего не добьемся. Обозлились, пошли в деканат вечернего и забрали свои документы, чтобы снова поступать на дневной. Нас замдекана предупредил: «Не поступите, назад не проситесь – не возьму». Но мы только ручкой помахали. Подали документы, сдали вступительные экзамены, слава богу, только два: устную и письменную математику, потому что в том году медаль стали учитывать. Но надо было обе пятерки получать. Ну, мы их и получили и были зачислены на первый курс. Отучились две недели, с ребятами перезнакомились, и вдруг вызывает нас тот самый замдекана, который не хотел к себе на дневной переводить. Заходим мы к нему, он и говорит: «Ребята вы, вроде, толковые. Хотите, я вас на второй курс переведу? Только надо два экзамена досдать». Мы сказали, что подумаем. Вышли, посоветовались и решили, что нет смысла год терять, хотя нам и группа, и преподаватели понравились. Так что дали свое согласие, досдали эти два экзамена и стали полноправными студентами второго курса.
Вот такое вышло поступление в институт. Пришлось сдать 13 вступительных экзаменов. Это вдобавок к медалям.
Но вся эта невероятная история имела продолжение. Прошло лет пятнадцать. Я зарабатывал деньги репетиторством, а для нахождения учеников давал официальные объявления. И вот как-то раз звонит мне какой-то мужчина, говорит, что хочет узнать о репетиторе для племянницы. Я ему все объяснил, и вдруг он спрашивает: «Марик, это ты?» Я отвечаю, что Марик – это, конечно, я, но неизвестно, какой Марик ему нужен. А это оказался бывший завуч моей школы Иосиф Григорьевич Рутман. Он прочитал мое объявление и решил поговорить со мной о былом. Вот что он рассказал. Когда нас тогда провалили на физфаке, в школе это было воспринято как шок, и администрация написала протестующее письмо в ЛГУ, а оттуда ответили, что, мол, надо лучше готовить абитуриентов, а не обвинять экзаменаторов. Мне было приятно услышать, что школа своих не бросила. Но и Пединститут не остался незамеченным. Как я и предсказывал Бобу, после его сочинения (и моего тоже) в Педе возникли претензии к школе, которая выпустила таких медалистов. Иосиф Григорьевич это узнал одним из первых, так как наши учителя, и он в том числе, летом подрабатывали на вступительных экзаменах именно в Педе. Он попытался объяснить ситуацию в ректорате. Мол, дело не в знаниях, а в том, что им не хотели отдавать документы, поэтому они и решили так выйти из положения. Молодые и глупые! Но ему было сказано: «Тем хуже! Значит, дело не в знаниях, а в том, что школа не смогла воспитать честность в учениках. Они готовы на любые авантюры, лишь бы добиться своих сомнительных целей». Короче говоря, ректорат подготовил письмо в горком партии о неподобающей атмосфере в школе №366. Администрации школы грозили серьезные оргмеры.
«И ты знаешь, Марик, как я выбрался из этой ситуации? – спросил меня Иосиф Григорьевич. – В один из тех дней я принимал вступительные экзамены. Поставил я какой-то девочке тройку, и через 10 минут в аудиторию ворвался разъяренный мужчина, представился как профессор кафедры истории партии, сказал, что я только что поставил тройку его племяннице и потребовал незамедлительно исправить эту тройку на четверку. Тут я взял его под руку и попросил пройти со мной в партком института. Там я рассказал парторгу, что только что на меня, члена приемной комиссии, было оказано давление профессором кафедры ИСТОРИИ ПАРТИИ данного ВУЗа с целью повышения оценки его родственнице. Я полагаю, что данный факт свидетельствует о неподобающей атмосфере на кафедре, а также в ВУЗе в целом, и считаю себя обязанным проинформировать об этом факте горком партии. Они оба побелели. Но, сказал я, я готов забыть об этом вопиющем происшествии, если ректорат, со своей стороны, забудет кое-что об истории поступления двух абитуриентов. И парторг при мне отдал распоряжение уничтожить готовую кляузу. Вот как все закончилось». Посмеялись мы с Иосифом Григорьевичем, мир праху его, над мрачной иронией нашей жизни.
И еще о моей школе. Наша любимая учительница математики Мария Васильевна Петухова, как оказалось, тоже принимала вступительные экзамены в Педе. Узнал я об этом лично, когда пришел сдавать устную математику (ту, что одновременно с химией). Захожу в аудиторию и вдруг вижу Марию Васильевну. Она что-то пишет и меня не видит. Я кладу экзаменационный листок перед ней, она читает мою фамилию и удивленно поднимает голову. Ну, никак она меня тут не ожидала увидеть. Долгих разговоров мы не вели, но она сказала, что было бы нечестным, если бы меня спрашивала она, и поэтому она передаст меня коллеге. Он сидел за соседним столом. Мария Васильевна что-то пошептала ему на ухо, указывая на меня, он кивнул, и экзамен начался. Ответы на вопросы билета его интересовали мало. Он предпочитал задавать задачи. Сколько я их решил, уж и не помню: пять или шесть. И по алгебре, и по геометрии, причем очень непростые, олимпиадного уровня. Решаю одну, он дает другую. Пару часов я там провел. Это был мой самый сложный экзамен, причем, возможно, не только из вступительных, а из всех, что я сдал в жизни. Мария Васильевна наблюдала за происходящим, явно болея за меня. Когда он задавал задачу, она хмурилась, а когда я показывал ему решение, она облегченно вздыхала. Наконец, он пожал мне руку, поставил пятерку, и я, вымотанный этим марафоном, вышел из аудитории. Мария Васильевна догнала меня в коридоре. Она была очень взволнована, поцеловала меня в щеку и сказала: «Спасибо, Марик!», а я ответил: «Это Вам спасибо, Мария Васильевна!» Судя по всему, экзаменатор сказал ей пару лестных слов обо мне как ее ученике и о результатах ее работы. Вечная ей память!
И последний штрих. Кандидатскую диссертацию по физике в1987 году я защищал именно в Пединституте. Мой официальный руководитель предложил мне в качестве первого оппонента нового заведующего кафедрой методики преподавания физики профессора Кондратьева Александра Сергеевича. Я сразу понял, о ком идет речь, но согласился. Когда я пришел к оппоненту домой со своей диссертацией, я ему напомнил, что мы знакомы. «То-то мне ваше лицо кого-то напоминает, – сказал он. – И где мы встречались?» Я честно ответил: «В 1964 году я поступал на физфак». Он расхохотался, хлопнул меня по плечу и сказал: «Так я ж Вас, наверное, завалил?» «Ну, не Вы, а Лева Савушкин». «Не сердитесь на него, – сказал Кондратьев. – Время было такое. Мы должны были вести себя правильно. Иначе было нельзя. Всем экзаменаторам перед экзаменами объясняли, что прием ведется не просто по знаниям, а исходя из неких высших соображений, известных только партии. Во-первых, во избежание национальных недовольств прием ведется с учетом процента данной нации в населении СССР, т.е. евреев принимать не более 2 процентов. Кроме того, ЛГУ – лицо страны и там не должно быть лиц с сомнительными биографиями. Всякие мошенники и воры имеют довольно денег, чтобы набрать репетиторов для своих детей и дать им нужную подготовку для поступления в ВУЗ. Так у нас в ЛГУ одни дети мошенников учиться будут. Поэтому наш первый отдел бдит на своем посту. Он изучает личные дела абитуриентов и дает им свою характеристику. Мы должны это учитывать. На экзаменационных листах стоят условные знаки для экзаменаторов, например, точка в верхнем правом углу значит, что не выше двойки, а в нижнем правом – нужна пятерка и т.д. Все экзаменаторы должны выполнять эти указания любыми способами. Иначе этот экзамен будет для них последним».
2. Детство и отрочество.
Эти мемуары я написал к своему 65-летию. Они охватили период с окончания школы до 2011 года. С тех пор я ощущал некоторую неловкость из-за того, что не коснулся своего детства, родителей, брата и, вообще, истории семьи. Но если браться за эту историю, то надо начинать с дедушек, бабушек, а может, и того дальше. Короче говоря, надо строить генеалогическое дерево семей моего папы и моей мамы. И вот, в начале 2014 года я начал это исследование. В итоге я дошел аж до прадедов и написал целый труд «История моей семьи», включающий три части: «Папина линия», «Мамина линия» и «Уже при мне». Там я старался писать максимально детально, со всеми событиями, датами, выписками из архивов, фотографиями почти всех живущих и умерших родственников. Читать этот текст постороннему человеку, наверное, скучно и неинтересно, он предназначен для людей, лично заинтересованных, т.е. живущих потомков семей Зеликман и Шмуц.
Однако в процессе поисков я натолкнулся на такие неожиданные факты, испытал эйфорию от стольких открытий, что посчитал правильным рассказать о некоторых из них. Здесь главное внимание уделяется не истории семьи, а истории самого поиска. Интересных моментов было много, и я напишу только о самых удивительных. О них вы сможете прочитать в рассказе «Роясь в корнях» сразу после мемуаров «Люди, гады, жизнь».
А вот главу о моей семье, моем детстве и отрочестве я решил сделать второй в мемуарах. Почему не первой, в историческом порядке? Я решил начать с какой-то кульминации, какого-то завлекающего момента, чтобы читателям захотелось читать дальше. Воспоминания о детстве таким увлекательным чтением не являются, примерно такое детство было у большинства моих современников. А вот история поступления в институт является тем самым ярким пунктом моей биографии, с которого можно начать. Сразу скажу, что и в дальнейшей истории моей жизни таких ярких кульминаций было еще много. Так что читателя ждёт интересное чтение. Поверьте мне.
Война закончилась. 26 апреля 45-го года мама с моим братом Мулей вернулись из эвакуации. Прибыли они из Сызрани, но до этого пожили и в Ташкенте (Чинобадская 8), где Муля получил паспорт. В это время папе было уже 45, маме 39, Муле уже исполнилось 18. Вокруг послевоенная разруха. Какие тут могут быть мысли о новом ребенке? Но… У папы был институтский друг дядя Фала Тумаркин. Он был лет на 10 моложе папы. У них с тетей Цывой уже было двое детей – Виля и Эдик. И вдруг после войны у них появляется дочь Геня. Она старше меня ровно на 9 месяцев. Это наводит на мысль, что моих родителей вдохновил пример их друзей. И они пошли на этот подвиг – 25 мая 1946 года родили меня.
Кстати, об именах и предках. Когда родился мой брат (в 1927 году), были живы оба мои деда. Поэтому использовать их имена было нельзя. Брата назвали в честь прадеда, отца Фейги Самуиловны, бабушки со стороны папы. Когда родился я, никого из дедушек не было в живых, поэтому меня можно было назвать в честь папиного папы Мордуха (Мотла), одним из вариантов имени которого в европейском варианте является имя Марк. Правда, мама говорила, что и ее отец Мендель тоже учитывался при выборе моего имени. Так что я назван в честь обоих.
Воспоминаний детства не так уж много. Помню, как мама кормила меня “бурдой” – супом из молока с размоченной в нем булкой и с маслом. Терпеть это не мог, но меня заставляли это съедать. Помню нашу квартиру на Садовой-Канонерской, соседей дядю Вову и тетю Нюру Орловых. У них не было детей, так что свою любовь они направили на меня. Помню суп со снетками, которым меня угощала тетя Нюра. Когда я вел себя плохо, мама ставила меня в угол, а потом придумала запирать меня в темной ванной. Не знаю, откуда я взял эту песню, но рассказывали, что, сидя в ванной, я очень жалостно пел: “Мамочка милая! Сердце разбитое!” Дальше не помнил, так что ограничивался этим трогательным припевом. Соседи шли к моей маме: “Женя! Началось. Мамочка милая! Выпускай узника”. Конечно, не сразу, ведь я должен был пройти это воспитание, но мама сдавалась, и я выходил на свободу.
Центрального отопления сначала не было. Каждый топил свою печку. Поэтому весь наш двор был заполнен поленницами дров. Для меня он представлял собой целую загадочную страну, в которой где-то за дровами находились какие-то двери, ведущие на мрачные и узкие лестницы, словно специально созданные для Раскольникова. Этот район и в самом деле был районом Достоевского и его героев. Неподалеку находился дом старухи-процентщицы, да и все герои Достоевского проживали поблизости.
Не было и газа, пользовались примусами и керогазами. Но 4 февраля 1949 года подключили газ и установили одну четырехкомфорочную плиту и один водогрейный аппарат. В подтверждающей это справке сказано, что в квартире проживало 9 человек. Судя по всему, это папа, мама, Муля, я, дядя Вова, тетя Нюра, баба Оля, ее племянница Римма и еще папина сестра Сима (Надя). Этот водогрей не предназначался для ванны. Сначала ее не было вообще. Потом поставили ванну с круглой печкой, которую топили специальными брикетами.
Ни в ясли, ни в садик я не ходил. Мама не работала и занималась мною сама. С одной стороны, это хорошо – я не болел так часто, как детсадовские ребята, мама могла дать мне больше, чем воспитательница. Но, с другой стороны, мне часто было скучно, не с кем поиграть. Поэтому я очень радовался, когда к другой нашей соседке – бабе Оле – приводили внука Мишу Белостоцкого. Он был на год младше меня, и с ним мы чудесно проводили время. Еще были радостные походы в гости к двоюродной сестре Оле, дочке дяди Левы. В их большой квартире было несколько мальчишек примерно моего возраста, там-то я и реализовывал свою тягу к общению.
В 53-м году меня отдали в школу №245, в 1-й А класс. Школа находилась за Аларчиным мостом и была мужской, то есть в ней учились только мальчики. Во входном фойе висела красивая доска с фамилиями золотых медалистов прошлых лет. Помню, как я смотрел на эту доску и представлял себе этих великих людей, которые добились такого успеха в жизни. Даже помечтать не мог, что войду в эту славную когорту. Первую мою учительницу звали Анна Ивановна Васильева. Это была пожилая, на мой тогдашний взгляд, женщина, добрая и располагающая к себе. Дети ее очень любили.
Учился я хорошо и легко. Вот кусочек из характеристики, написанной на меня Анной Ивановной после 1-го класса. «Мать не работает и уделяет много времени воспитанию сына, но воспитывает неправильно. Мальчик сильно избалованный, капризный и недисциплинированный. В первое полугодие много времени пришлось уделять исправлению дисциплины. В конце года дисциплина улучшилась. Мальчик способный, умный и очень любознательный. Всегда активный, но не собранный и не сосредоточенный». И так далее. Спорить не стану, но претензий к воспитанию мамой не принимаю.
В 1954 году государство объединило мужские и женские школы. Так что меня перевели в школу № 244. Она находилась у Калинкина моста. Здесь я учился по 6-й класс. Классной руководительницей была Лидия Михайловна Шувалова. Вот строки из характеристики после 2-го класса: «Мальчик очень способный, умный, любознательный, активный, вежливый, аккуратный, но капризный, любит посмеяться даже на уроках». Эта смешливость преследовала меня все школьные годы. Помню, как уже в 10-м классе мы со Славиком Чувашевым должны были подготовить диалог по английскому. Вызывает нас Хильда Матвеевна к доске. Мы начинаем свой диалог. И вдруг Славик замечает какую-то пылинку на обшлагах брюк. Он наклоняется и, продолжая беседу, принимается стряхивать эту пылинку. Я начинаю умирать от смеха и остановиться никак не могу, несмотря на грозные предупреждения учительницы о двойке. Чтобы прекратить смеяться, я провожу рукой по лицу, стирая смех, и появляюсь оттуда с деланно угрюмой гримасой. Класс срывается в хохот, и сама Хильда Матвеевна утирает слезы от смеха. Тогда я выскакиваю в коридор, там в течение нескольких минут успокаиваюсь и, уже серьезный, возвращаюсь в класс. При виде меня у ребят начинается истерика, не заканчивающаяся до конца урока, который, слава богу, был не за горами. В следующий раз Хильда Матвеевна снова вызывает нас с этим диалогом. Мы начинаем, и все идет нормально до того момента, когда я вспоминаю, как Славик чистил брюки. Я представляю, как он сейчас снова начнет это делать, дальше все развивается, как цепная реакция. И я снова выскакиваю из класса. Правда, в этот раз мы все-таки довели дело до конца. Жаль, что с возрастом эта смешливость прошла, и сейчас меня рассмешить непросто.
Не буду рассказывать подробно о школьной жизни. Она была довольно типична для того времени: вступление в пионеры, сбор макулатуры и металлолома, соревнования пионерских звездочек, классные собрания, грамоты за хорошую учебу. По окончании первого класса мне за хорошую учебу вручили книгу Льва Кассиля «Улица младшего сына», после 2-го – «Старика Хоттабыча». Эти книги и сейчас у меня, хранят память о моем детстве.
Мама была в родительском комитете и внимательно наблюдала за моим развитием. Не давалась мне физкультура. Надо признать, я был довольно упитанным ребенком, не толстым, но с заметной жировой прослоечкой. По физкультуре мне ставили четверку, но только потому, что нельзя хорошему ученику ставить тройку по предмету, который ему не дается. Но мне это не нравилось. Я не хотел быть “жиромясокомбинатом”. Мама поступила очень мудро, отдав меня в секцию спортивной гимнастики. Весь шестой класс я ходил на занятия в Дом культуры имени Цюрупы около Балтийского вокзала. Тренера звали Ларион Семенович, он старался научить меня чему-то, но это было не так просто. Помню, как осваивал стойку на голове дома, на подушке, с маминой помощью. Мама держала меня за ноги, чтобы я не падал. А еще мы с нею разучивали кувырок вперед с группировкой. Не могу сказать, что стал лучшим в нашей секции, но похудел и стал получать по физ-ре только пятерки. Кроме того, я перестал болеть. Если в 4-й четверти 5-го класса я болел катаром верхних дыхательных путей четыре раза, то в следующий раз я заболел уже в институте! Да здравствует физкультура! Более того, с тех пор я стал считать себя весьма спортивным человеком. В старших классах я принимал участие во всех школьных соревнованиях и даже был вратарем сборной школы по хоккею, хотя на коньках катался не очень. В результате за свою жизнь я имел около десяти спортивных разрядов по разным видам – плавание, прыжки в высоту, стрельба, лыжи, шашки, шахматы. Большей частью это были третьи разряды, но было и два вторых: по гимнастике в институте и по настольному теннису – уже на заводе «Прибор».
После 6-го класса, летом 1959-го, мы переехали в новую квартиру. Наконец закончилось прозябание в коммуналке с очередями в туалет и в ванную. Здесь все было свое. Двухкомнатная квартира общей площадью 45 кв. метров. Ради новой жизни пришлось расстаться со школьными друзьями, так как квартира находилась далеко, на Алтайской улице. Туда надо было ехать на 29-м трамвае почти целый час. Так что я со своими прежними одноклассниками больше не виделся. Впереди были новые знакомства в новой школе №429. Но и там я проучился всего один год. Получил аттестат за 7 классов, а в 8-й меня и еще нескольких моих одноклассников перевели в школу №366, которую я в итоге и закончил. Этот перевод в новую школу был связан с переходом от 10-летнего образования к системе 11-летнего производственного обучения. С 9-го по 11-й класс два дня в неделю все школьники должны были обучаться профессии. У нас это обучение происходило на заводе «Электросила». Там я получил специальность слесаря-лекальщика 1-го разряда, что, как показала жизнь, было невредно. Я научился что-то делать руками и в дальнейшем не боялся браться за какие-либо починки.
Школа №366 оказалась большой удачей. Там были отличные учителя, вполне творческая атмосфера и хорошие ребята. Мои одноклассники стали моими друзьями на всю жизнь. Недавно мы отмечали 50-летие знакомства, и на него пришло довольно много народу. Все мы считаем, что нам 50 лет назад очень повезло. Наша школа уже в те годы была одной из лучших в городе, а через несколько лет стала физико-математической. Чемпионаты школы проходили по многим видам спорта: баскетболу, хоккею, лыжам, легкой атлетике, настольному теннису и т.д. И почти во всех я принимал участие.
Была еще так называемая «Эстафета искусств». Каждый класс готовил к школьному вечеру какой-то спектакль. В конце года подводились итоги и награждались победители. Помню, как мы ставили спектакль по трем «Денискиным рассказам» Виктора Драгунского. Я там играл отца, который 8-го марта, придя домой, обнаруживает, что все его дорогие вина из бара слиты в одну кастрюлю, а освободившиеся бутылки сын с приятелями сдали, чтобы на вырученные деньги купить подарки одноклассницам. Я должен был сначала выйти из себя, но потом, под воздействием жены, которую играла моя весьма симпатичная одноклассница Алла, проникнуться юмором и трогательностью ситуации и поцеловать Аллу со словами: «Как я люблю твой смех, дорогая!» Все это я проделал, кроме поцелуя. Такой вот трепетный я был – не целовался без любви. Мой одноклассник Володя, услышав о моем отказе целоваться, предложил на эту роль себя, обещая, что он это сделает как надо. Но тут отказалась Алла, видимо, я ей нравился больше.
А еще в 10-м и 11-м классах мы издавали «подпольный» журнал «Юный дарвиник». Название было связано не с большой любовью к дарвинизму, а, наоборот, иронически подчеркивало бесполезность, на наш тогдашний взгляд, изучения этой науки. Началось всё с эпохальной фразы нашей биологини: «Где ноги у головоногих?» Отсюда моментально родилось стихотворение, а дальше пошло-поехало. Конкурирующая группа начала выпуск журнала «Трын-географ». «Трын» – это прозвище Бори Танхилевича, вдохновителя этого журнала, а «географ», потому что отстаивалась мысль о ненужности нам географии. Этот журнал ограничился только одним номером, потому что «дарвиники» переманили к себе всех стоящих авторов. «Юный дарвиник» прожил долгую жизнь в целых шесть номеров, а потом наша классная руководительница Хильда Матвеевна предложила нам выйти из подполья и открыто издавать классную газету. Мы согласились и назвали газету «Индивидуум». Архив ее содержит около десяти выпусков. В каждую нашу встречу (раз в пять лет) мы развешиваем на стенах бережно сохраненные газеты, раскладываем на столах журналы, и пожилые одноклассники с удовольствием предаются воспоминаниям.
Сколько всякого было в эти школьные годы! Жаль, что у моей дочери не осталось таких воспоминаний о ее школе, какие есть у меня о моей.
Как я уже говорил, учился я всегда хорошо. Но зубрилой или, как сейчас говорят, “ботаником” не был. Выезжал на памяти и быстрой реакции. Устные домашние задания готовил уже перед уроком, на перемене. Прочитывал первый вопрос, а на уроке, пока кто-то отвечал этот вопрос, просматривал второй и так далее. Круглым отличником я был только в последнем 11-м классе, а так пара четверок всегда была, правда, четверки по неосновным предметам: пение, рисование, труд. Помню, как невзлюбила меня учительница ботаники, ни за что не хотела ставить пятерку. Я уж и гербарий собрал, и какой-то плакат нарисовал, но так и осталась четверка, благо что в аттестат не пошла. Потом аналогичные проблемы были по химии, но тут дело было связано с аттестатом, так что пришлось поднапрячься, что-то дополнительно сдать, и все-таки Зинаида Васильевна поставила желанную пятерку. Думаю, что в 11-м классе ей уже объяснили, что не надо мешать школе готовить медалистов. Вопрос медалистов для школы – важный и интересный момент. Был такой яркий случай. Историю у нас вела Прасковья Петровна, некрасивая одноглазая старая дева. Ее не любили, суровая была и непреклонная. В апреле последнего года учебы она неожиданно устраивает контрольную по домашнему заданию. А я-то к уроку, как обычно, только первый вопрос просмотрел, а достался мне третий. Ничего не знаю. Надо что-то придумывать. Кладу учебник на колени и сквозь щель в парте вглядываюсь в столь дорогие для меня строки. И вдруг поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с глазом Прасковьи Петровны. Я вообще-то списывал редко, так что опыта не было. Ее глаз меня просто загипнотизировал, как змея кролика. Сижу, рука в парте и смотрю на нее. А она медленно идет ко мне. Помню ее четкие приближающиеся шаги. У меня холодный пот. Она подходит, откидывает крышку парты. У меня на коленях лежит открытый учебник. Прасковья Петровна пару секунд смотрит на него, потом закрывает парту и медленно отходит, не говоря ни слова. Конечно, она понимала, что справедливо заработанную двойку я уже исправить не успею. Интересы школы требовали закрыть глаза на мою маленькую глупость. Она и закрыла.

