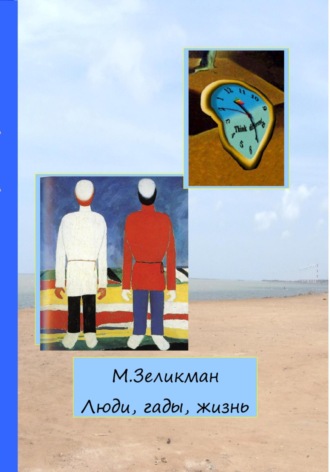
Полная версия
Люди, гады, жизнь
Он еще везде рекламировал свои «открытия», а журналистам это только дай, даже в советское время главное было прокукарекать, а дальше хоть не рассветай. Так что заметки о чудесном приборе появлялись и в «Ленинградской правде», и в «Известиях». Под эти идеи и финансировался отдел, т.е. даже я получал зарплату благодаря этой чуши. Однажды к нам в отдел приехала делегация с Фрязинского завода, который этот политрон выпускал (малыми партиями). Главный инженер завода специально приехал к нам, чтобы узнать, что же это за волшебный прибор он выпускает. Как он сказал, на завод приходят письма со всей страны с просьбами подробно рассказать о чудо-приборе, осуществляющем связь на космических расстояниях, а они ничего об этом не знают. Был организован семинар, на котором Ставицкий сделал попытку изложить свои идеи. Но представители завода были настоящими профессионалами, они сразу поняли всю ерундовость его позиций. Это было видно по выражению их лиц: они сначала вслушивались, но через несколько минут на лицах появились улыбки, они стали перешептываться и слушали уже вполуха. Потом задали несколько вопросов, но это уже был сугубо формальный жест – им уже было все ясно.
Именно после этого я понял, что Анатолий Иванович в меньшей степени мошенник, чем параноик. Будь это не так, он попытался бы закамуфлировать свои идеи, чтобы представители завода, важные для успеха политрона люди, не пришли бы к однозначному выводу о его неадекватности.
Как я уже сказал, Ставицкий был идейным руководителем отдела. Формальным же его руководителем была Галина Викторовна Герчикова, дама, интересная во всех отношениях. Чуть за 40, она была весьма красива и знала об этом. Пару лет назад она защитила кандидатскую под руководством Ставицкого, после чего стала доцентом и руководителем отдела. Диссертация ее представляла собой детский лепет. Она не содержала завиральных идей Анатолия Ивановича, но, честно говоря, и других идей в ней тоже не было. Максимум курсовая работа на третьем курсе. Но ей очень хотелось считать себя Марией Склодовской-Кюри, великой и интеллектуальной. Дурой она не была, так что понимала, что до Кюри не дотягивает. Но пост руководителя уже есть, так надо организовать работу так, чтобы потрясти мир открытием, тем более что открытие уже в руках, надо только его правильно оформить. Она верила в идеи Ставицкого, но ничего в них не понимала (впрочем, как и все).
Заместителем Герчиковой был Николай Васильевич Киселев (НикВас). Он тоже не так давно защитился, и тоже по политрону. Про диссертацию его могу сказать теми же словами, что про герчиковскую. НикВасу было 36 лет, неплохой мужик, любящий поддать, сходить в баню с друзьями, съездить на шашлыки. Ученый никакой, но мечтал о докторской в будущем, видя себя скорее организатором чужой научной деятельности. Впрочем, как и Герчикова. Именно поэтому они и взяли меня на работу, хотя это было не просто. А потом, через несколько лет, НикВас взял Борю Спивака, а затем и Женю Гинзбурга. Они надеялись, что образованные и толковые еврейские мальчики подхватят великие идеи Ставицкого, оформят их, потрясут человечество, а во главе этой научно-технической революции будут стоять именно они. Но, к сожалению, идеи не были великими, они были завиральными. Так что ничего из этой задумки не вышло. Никто из них докторской так и не защитил, включая Ставицкого. Недавно на выставке я встретил его брата Валентина Ивановича, который в те давние времена был его единомышленником, но работал не у нас, а где-то в другом месте, так что я с ним тесно не общался. Рассказал он, что Анатолий Иванович умер несколько лет назад. Так до конца жизни он и продолжал пробивать свои идеи, я о них читал в каких-то газетах уже в новое время (когда всякую чепуху стало печатать еще проще), да и Валентин на выставке представлял их общую «книгу» на ту же тему: что-то вроде «Политрон и экстрасенсорика». НикВас умер лет 15 назад от инфаркта. О судьбе Герчиковой ничего не знаю.
Когда я пришел в отдел, там было 4 аспиранта. Каждый из них заслуживает нескольких слов. Роман Ханукаев, 34 года, горец-тат по национальности. Его отец – какой-то известный деятель культуры, коллекционер ковров или что-то в этом роде. Таты – горные евреи, поэтому Рома вел себя изобретательно. При всех он был горцем, почти осетином, усы, манеры, даже акцент. Но с нами он говорил уже как еврей, с использованием специфических слов типа «азохунвэй», «шлемазл» и т.д. Ни способностей к науке, ни знаний он не имел, закончил тот же СЗПИ, но, если Киселеву можно было стать доцентом, то почему это невозможно для Ромы? Темой его работы было использование политрона в распознавании речи. У него на столе стоял магнитофон, постоянно изрыгающий «Девять… десять… девять… десять…». Ни одной толковой мысли Рома не предложил. Так до защиты и не дошел.
Юра Ленточкин. Тоже около 35 лет, последний шанс для дневной аспирантуры. Неплохой мужик, компанейский, но тоже ни знаний, ни способностей. Не помню темы его исследования, но опять какая-то ерунда. Защита так и осталась его несбывшейся мечтой.
Саша Путилин. Хитрый, неглупый, но тоже не отягощенный знаниями. А карьера-то влечет. Когда я пришел, он был первым, кто со мной подробно поговорил. Он рассказал, как много у него научных идей, он не может один их все разгрести и будет рад передать мне часть своих задумок. Все это было бы очень мило, если бы было правдой. Просто он хотел, чтобы все думали, что у него диссертация уже почти готова, поэтому всем рассказывал, как далеко продвинулся, хотя подробностей никому никогда не сообщал. Хитрец, мягко говоря. Он вышел на предзащиту, но ею все и закончилось. Он наговорил такой явной чуши (которую мы с Борей раздраконили в пять минут), что даже НикВас понял, что выпускать его на защиту нельзя. Он путал основные математические понятия, а такие погрешности становятся сразу заметны. Так что аспирантуру он закончил без защиты и уехал в свой не то Псков, не то Новгород. Но потом я слышал, что он все-таки где-то в провинции умудрился защититься, стал доцентом и в каком-то ВУЗе позорит гордое слово «преподаватель».
Валера Щипцов. Единственный, кто защитился. От природы он был довольно толков, но со знаниями были те же проблемы. Помню, как он волновался перед защитой. Защита подготавливалась, как битва за Москву. Всех членов совета поили и задаривали сувенирами. Вопросы подготовили заранее и вручили тем, кто должен был их задать в нужный момент. Валера записал ответы на них в тетрадку и выучил наизусть. Перед защитой он несколько раз пил валерианку, дрожал мелкой дрожью. И все получилось. Защитился, и ВАК прислал подтверждение. Валера стал доцентом, ходил очень важный, прямо как настоящий ученый. С ним как-то произошла такая история. Все праздники в отделе отмечались, организовывался стол: вино, закуска, пирожные. А наш СЗПИ находится рядом с Эрмитажем. Поэтому наши «девочки», т.е. сотрудницы, в свободное время с удовольствием ходили в музей. Так вот, выпили мы как-то, закусили, выпили еще, Валера слегка запьянел и вдруг открылся с неизвестной нам стороны. Он громогласно обвинил всех нас, а в первую очередь, девочек, в лицемерии и вранье. Мы, мол, делаем вид, что нам интересны музеи, новые книги, выставки, а все это враньё, и на самом деле девочки думают только о мужиках, а мужики – о бабах, а еще о том, как бы сходить в баню и выпить пивка с друзьями. Мы поняли: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Таков был сам Валера, и его, видать, давно мучили сомнения, неужели бывают и другие люди, или это все ложь и лицемерие. Мне эта ситуация всегда напоминала сцену из «Дачников» Горького, там тоже один герой вдруг рассказал всем, что думает, и открылся им с новой стороны.
Кроме описанных выше персонажей, в отделе существовала вычислительная группа, состоявшая в основном из девочек-программисток. Девочки были в возрасте от 25 до 35, вполне приятные, интеллигентные и дружелюбные. К политрону они прямого отношения не имели, разве что иногда составляли программы для обработки результатов экспериментов. Программистская работа в те времена сильно отличалась от нынешней. Девочки сами только писали программы, затем они относили их в один из вычислительных центров, которых по городу было довольно много. Компьютеры находились именно там, представляли они собой огромные скопища разных устройств, шкафов, коробок и т.д., занимающих целые залы. Специальные люди брали программы и переносили их на перфокарты, пробивая комбинации дырочек в соответствующих местах. Дальше эти перфокарты заводились в компьютер, и он начинал считать. Но наши программистки к этому не имели никакого отношения, они только сдавали листочки с программами, а через несколько дней приходили получить ответ компьютера. Чаще всего он сообщал об ошибках в программе, так что она корректировалась и снова сдавалась в центр. Проходило несколько дней, и все повторялось. Как видите, работа была не пыльная, присутствия девочек на рабочем месте не требовавшая. В любой момент можно было сказать, что, допустим, Катя уехала в вычислительный центр. Такая свободная жизнь девочек весьма устраивала. Настроение у них было хорошим, что определяло и настроение в отделе. Все праздники праздновались коллективом в полном составе.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

