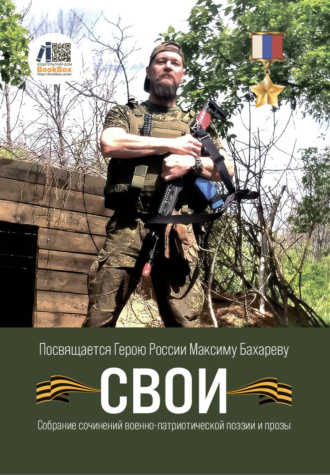
Полная версия
Свои
Конечно, страшно было не только корове и собакам, которые утихли и куда-то поразбежались и попрятались, но и всем взрослым, и особенно нам, детям от трёх до семи лет. Ведь такого звука, такой вибрации земли в хуторе и в хате никогда не было. Впечатление такое, что от вибрации земли саманная хата вот вот рассыпется и придавит нас. Мы с братом Григорием жмёмся к маме, а она молится на икону в правом углу с горящей под ней лампадкой. И это один из первых детских страхов войны, запомнившихся мне навсегда.
Танкисты
Мы с братом через окно в сенцах видим, что тяжёлый танк, легко выкорчевав тутовый пенёк толщиной около полуметра, к которому была привязана корова, не снижая скорости, устремился прямо в огород по участку, где буквально накануне нами была выкопана картошка. В конце огорода, а это метров девяносто от дома, танк остановился с поднятым стволом, направленным на юг, в сторону города Моздока, до которого по прямой было около десяти километров. А до рисового канала, линия которого возвышалась над южным горизонтом, было менее километра. Двигатель танка при этом продолжал работать на холостых оборотах. Время было уже скорее предзакатное.
Поскольку немцы опасались наших со стороны Моздока, то, значит, в хутор они вошли раньше, чем наши войска оставили Моздок. За Моздок наши войска упорно сражались с передовыми немецкими частями и с их подтянутыми к городу резервами. Взять Моздок немцам удалось только 25.08.1942. А освобождён от немцев город был 03.01.1943. В наш хутор немцы вошли 23.08.1942, а ушли из хутора не позже 03.01.1943 – даты взятия Моздока. Таким образом, оставшимся в хуторе жителям довелось пробыть в немецкой оккупации, на оккупированной территории, как потом писали в анкетах, чуть более четырёх месяцев. И этот период оставил в моей жизни значительный след.
Танк в конце огорода по непонятным причинам оставался на своей позиции весь остаток 23 августа, а потом ушёл полем (не через двор) на юг, в сторону Моздока. Момент ухода танка с его позиции в нашем огороде для нас с братом остался незамеченным, но, скорее всего, он выдвинулся в сторону Моздока рано утром 24.08.1942, когда мы ещё спали, и присоединился к уже начавшим атаку города танкам 2-го батальона 6-го танкового полка боевой группы полковника Фрейхерра фон Либенштайна, которая на рубеж обороны города выходила по направлению Эдиссия – Графский – Весёлое – Моздок. Но уже 24 августа, по данным ЦАМО № 236, в штурме обороны Моздока участвовали «8 танков, вышедших из района Русский 1-й». Здесь имеются в виду танки боевой танковой группы Вестхофена, которая на рубеж обороны города выходила по направлению Эдиссия – хутор 1-й Русский – Моздок.
А вот немецких танкистов, выбравших в качестве ночной стоянки конец нашего огорода, в их специфической одежде я хорошо помню, так как они в поисках «курка, яйка, млеко, сало» под вечер приходили во двор и в хату к маме буквально в день своего появления. Сала, которого они требовали от мамы, им не досталось, так как его остатки мама дня за два до этого закопала на дне земляного погреба, а вот яиц и накануне выкопанной картошки им перепало. Яйца они нашли и выгребли из насестов в курятнике, а картошку набрали из бурта во дворе. А вот действия танкистов, одетых в свои шлемофоны и специальные, тёмного цвета, красивые формы, при «охоте» на наших домашних кур являются типичным сюжетом о войне для режиссёров советских да и российских фильмов. Подобные киношные кадры, практически ставшие штампом или, как теперь говорят, мемом, мне доведётся потом посмотреть на киноэкранах не один раз. А тут вот в реальности и вживую.
Правда, кур, а их у нас водилось десятка два, двое танкистов отлавливали сами, и тоже ни о чём никого не спрашивая. Ситуация войны и незнание языка как средства общения, возможно, оставляют какие-то лазейки для вот такого бесцеремонного – «грабительского» – поведения уже тогда «цивилизованных» европейцев по отношению к нам, «аборигенам». Эта по времени предзакатная того же солнечного августовского дня картина, когда два танкиста, одетые в свои отличающиеся от всех других комбинезоны – формы со шлемофоном на голове, гоняются в нашем дворе за нашими ещё не успевшими устроиться в курятнике на жёрдочках и насестах для ночёвки курами, падают, вскакивают и с радостными, чуть ли не детскими лицами и возгласами наконец ловят двух куриц. По возрасту танкисты выглядели лет на 30–40, но весёлые выражения их лиц, азарт и возгласы на непонятном для нас языке при «охоте» на кур были по-юношески эмоционально окрашены. В моей памяти действия танкистов в процессе вот такой «охоты» остались и всплывают сейчас в цветном виде. Эти картинки появились не из киношных или книжных картин и не из чьих-то рассказов – это я видел своими глазами и запомнил на всю жизнь. Я и сейчас прекрасно помню, насколько сильно были испачканы пылью спереди (ведь падать приходилось на животы) красиво смотрящиеся до этого костюмы танкистов, когда они, каждый держа в одной руке курицу за ноги вниз головой, удалялись со двора в конец огорода к своему танку, обсуждая с чуть ли не юношескими улыбками на лице все перипетии ловли кур. А уже ближе к вечеру в конце огорода, где стоял танк, появилась струя дыма – это танкисты варили себе пойманных во дворе кур на ужин.
«Наш» танк эту ночь провёл на своей позиции в конце нашего огорода, а у экипажа перед броском на Моздок получился прекрасный вечер и ужин с курицей, горячим бульоном и, возможно, со шнапсом.
Мотоциклист – регулировщик движения
В нашей хате осенью какое-то время квартировал немец, разъезжавший на трёхколёсном мотоцикле с люлькой. Ростом он был выше мамы, со стройной фигурой и с немного рыжими волосами. Мотоцикл, когда немец отдыхал, стоял в нашем дворе, и у нас с братом было достаточно времени изучить его и содержимое люльки. А в люльке было очень много раскрашенных жестяных кругляшек, нанизанных на тонкие круглые и короткие деревяшки. Раскраска была, как мне показалось, забавной: какие-то стрелки то прямо, то вправо, то влево и многое непонятное ещё. Теперь-то понятно, что это были дорожные регулировочные знаки, а «наш» мотоциклист был именно регулировщиком, в задачи которого входило указывать направление движения наступающих немецких механизированных колон.
Осенью 1942 года на Кавказском фронте продолжение наступления немецких войск застопорилось. Линия фронта на восток от Моздока установилась в ногайских бурунных степях, а на юг, в сторону Грозного, передовая дальше ст. Вознесеновской и Малгобека не продвинулась. Поэтому наш квартирант этот отрезок времени осени 1942 года остался без работы. Мотоцикл нашего квартиранта с красивыми и непонятными «игрушками» целыми днями простаивал у нас во дворе.
Тогда эти «игрушки» мне показались очень забавными, и я, втихую от всех и даже от старшего брата Гриши, утащил их в огород, где и спрятал в ещё не убранной кукурузе, ряды которой стояли стеной. Сколько эти «игрушки» были моими и играл ли я ими, не помню. Но через какое-то время дорожные знаки понадобились по прямому назначения своему хозяину, который, не найдя их в люльке, оперативно вычислил похитителя, схватил за руку и начал кричать что-то на меня, держа пистолет в руке. Он был расстроенный и злой. О чём он кричал – мне понятно не было. Когда он подтащил меня к мотоциклу и показал на люльку, я, конечно, догадался – чего добивается от меня немец, но, пока он не подключил к дознанию маму, несмотря на пистолет в его руке, молчал как партизан.
Мама, держа за руку, отстегала меня хулудиной, с каждым ударом спрашивая:
– Васька, шо ты у ёго взяв?
Должен сказать, что удары хулудиной, если они плотно прилегают к спине или попе, очень болезненны, почти как кнутом. Долго выдержать эту экзекуцию и пытку я не мог и, хныкая, повёл маму, а следом и немца в кукурузу. Все регулировочные знаки, к радости немца, были целы, и он, схватив их, умчался куда-то на своём мотоцикле.
Так получилось, что после этого наш постоялец подружился со мной. Он стал угощать меня сладостями и иногда даже катал на своём мотоцикле. Во всяком случае, вкус галетного печенья, которым он меня угощал и которое я впервые видел и пробовал, помню с тех пор.
Так же прекрасно помню одну поездку с ним на мотоцикле. В один из солнечных и тёплых дней конца октября или начала ноября он позвал меня к мотоциклу и показал, что я должен сесть в люльку. Но кто же в моём возрасте откажется от такого? Мотоцикл завёлся, и мы выехали со двора. По улице доехали до сельпо и по мосту через Невольку (тому самому – восстановленному немцами; кстати, в таком виде этот мост простоял и прослужил хуторянам десятилетия после окончания войны) поехали в сторону нашей горы. Поднялись на её верх, а это от хутора больше километра, и остановились.
На горе я был впервые. Наш хутор с горы просматривался во всю длину. Картина для меня была очень интересной. Стояла поздняя осень, и мне недавно исполнилось четыре года. Погода была чудная: на небе ни облачка и яркий безветренный солнечный день. Лента деревьев вдоль Невольки и сады в огородах, ещё не до конца сбросившие листву, просматривались с этой высоты во всей своей осенней красе с изумительными цветными тонами и полутонами раскрашенной листвы. Отсюда, с горы, и с этого расстояния ты видишь и воспринимаешь не отдельно взятую веточку или даже не целое дерево, а полосу деревьев, раскрашенных, как на картине, цветными мазками осени для разных пород деревьев. Немец стоял рядом с мотоциклом и долго рассматривал эту завораживающую картину. О чём он думал и какие мысли приходили ему в голову в этот момент – сказать трудно. Но теперь я предполагаю, что он сознательно взял меня с собой и специально ездил на гору полюбоваться с высоты открывающейся во всей своей осенней красе земной природой. Ведь в это время у него там, дома, стояла такая же осень. Он долго молча стоял, смотрел вниз и думал. Я тоже, стоя в люльке, с интересом рассматривал с высоты горы неожиданно открывшуюся для меня природную панораму осени, в которой наш хутор, вписанный в цветное обрамление осенней листвы, создавал непридуманную и ненарисованную прекрасную земную картину, за которой как бы в дымке просматривались очертания трубы кирпичного завода и угадывались контуры высоких зданий элеватора Моздока. А далее за линией Моздока во всю ширину горизонта просматривались северные склоны гор Кавказского хребта, покрытые снегом. Погода была солнечная, и безоблачная панорама горизонта во всю его ширину открывалась с нашей горы и зрительно воспринималась как кем-то придуманная и нарисованная на небесном полотне завораживающая картина. Где-то прямо за линией Моздока мы наверняка видели Казбек, а правее и Эльбрус. Знать название этих кавказских высот я, конечно, тогда не мог, а вот немец знал о существовании и Казбека, и Эльбруса и очень долго любовался отрывшейся панорамой Кавказского хребта и двух его самых известных высот. В том, что немец знал о Казбеке и Эльбрусе, я теперь абсолютно уверен. И совсем не случайно он выбрал именно вот такой по погоде прекрасный день и поднялся на мотоцикле вместе со мной на гору. Вряд ли в этот момент, долго находясь рядом с немцем на нашей горе, я в свои неполные пять лет о чём-то серьёзном мог думать – я просто смотрел и запоминал.
А вот сейчас я думаю, что этот рыжеватый немец был мечтательным и романтичным человеком с доброй душой, которому эта война была совершенно не нужна и уже, возможно, успела порядком надоесть. Скорее всего, у него там, дома в Германии, остались дети (возможно, такого же возраста, как и я), которых он любил и собирался приучить в жизни к хорошему и доброму. Я очень благодарен ему за эту неожиданную поездку и молчаливый урок природоведения и любви к природе. Кроме того, мне надо его благодарить и за те пищевые добавки – невиданные в хуторе даже после войны шоколадки и галетные печенья, которые перепадали мне от него и были так необходимы организму в моём возрасте. А вот кто он и смог ли остаться живым в этом военном круговороте тех лет – неизвестно.
Румынская мамалыга
Ближе к зиме мотоциклист-регулировщик куда-то исчез, а в хуторе и у нас во дворе и хате появились румыны. Стояла поздняя осень. Дни и особенно удлинившиеся ночи были уже достаточно холодными. Воинский состав немецких и румынских соединений для тепла и уюта расквартировывался в хатах жителей хутора, которые после Покрова уже начинали обогреваться печами. При этом согласия на размещение солдат в хате у хозяев этих хат никто не спрашивал. Солдаты заходили в хату и сами определялись: кто и где будет коротать ночи. Они в хуторе чувствовали себя хозяевами и вели себя по отношению к нам, хуторянам, в том числе и владельцам хат, по-хозяйски.
Румыны разговаривали на своём языке, который даже мы, дети, уже отличали от немецкого. В связи с румынами вспоминается следующее. Как-то группа румын в нашем огороде на неубранной делянке кукурузы наломала уже полностью созревших и высохших кочанов. Вручную обрушили кочаны и на нашей ручной мельнице намололи кукурузы. Из кукурузной муки на невысокой переносной металлической плите, которая очень долгое время стояла у нас посередине двора и постоянно дымилась, сварили в широкой алюминиевой кастрюле мамалыгу. У нас в хуторе из кукурузной крупы варили кашу. Особенно вкусной получалась каша, если её варили с тыквой. Из кукурузной муки пекли чуреки. А тут непонятное слово и блюдо «мамалыга». Но дело даже не в этом. Румыны не стали есть мамалыгу горячей, а дали ей время остыть и затвердеть в низкой, но большого диаметра алюминиевой кастрюле. После этого на уже подготовленный стол они перевернули кастрюлю, и мамалыга оказалась на столе, напоминая по виду торт. И вот тут самое главное, что поразило моё детское восприятие и запечатлело случай с мамалыгой в памяти на всю жизнь. Мамалыжную кругляшку румыны резали не ножом, а прочной, как тогда называли суровой, ниткой. Этой туго натянутой ниткой они обжимали мамалыгу по пересекающимся диаметрам сверху вниз и протягивали нить по низу мамалыжной кругляшки. В результате получили ровные сегментные кусочки мамалыги, одним из которых угостили и меня. Позже, уже во взрослой жизни, мне доводилось есть мамалыгу, но вкус и запах той румынской мамалыги времён войны у меня остался в памяти до настоящего времени.
Диверсанты
В одном из самых больших и высоких колхозных амбаров, примыкавших к трегубовскому двору, немцы начиная с августа – со своего прихода в хутор – организовали тюремное помещение для содержания под стражей наших военных лётчиков, сбитых в воздушных боях над просторами моздокской степи и там же взятых в плен после приземления с парашютами. Толстую деревянную дверь этого амбара внизу повело, и она неплотно заходила в коробку. Вот в эту щель мы, дети, просовывали пленённым лётчикам рубленый табак – самосад – и что-то из еды, которые нам вручали наши мамы. Часовые у амбара, круглосуточно охранявшие эту дверь, нам, малышам, благосклонно разрешали это делать.
В бригадном дворе расположилось что-то наподобие штаба какой-то тыловой немецкой части. Во всяком случае, оттуда были протянуты два тонких, как потом стало понятно, телефонных провода. Провода были протянуты по убранным и заснеженным огородам с промёрзшей землёй. Непосредственно к территории бригады примыкал огород и хата Трегубовой тёти Гали – мамы моего друга Шурки. По белому заснеженному трегубовскому огороду эти провода чётко просматривались и тянули нас, детей, к себе своей неизвестностью: «А шо це такэ?» И вот с Шуркой (он был старше меня) однажды, уже в декабре, топором на мёрзлой земле их огорода мы вырубили кусок длиной метра три зачем-то понадобившегося нам провода, проложенного по земле через огород.
Реакция немцев на разрыв по линии связи была мгновенной. Нас практически застали на месте – ведь трегубовский огород по длине провода соседствовал с бригадным двором. А поиск повреждения на линии немцами вёлся от штаба, то есть из бригады. Нас, пойманных на месте, да ещё и с топором, немецкие связисты за руки буквально притащили в бригаду. Притащили, потому что, как мы ни упирались, наша обувь проскальзывала по снежному насту. А что мы упирались – это я помню точно. Разбирались с нами достаточно жёстко и долго. В помещении, куда нас затащили связисты («кабинет» бригадира нашей колхозной бригады), было человек пять немцев, и почти все в офицерской форме. Нас усиленно и долго пытали. Конечно, пытали не в смысле физических насилий, а строго, с пистолетом в руках, громко и настойчиво задавали интересующие в этом случае немцев вопросы: «Кто научил? Кто заставил?» Спрашивали на русском языке через переводчика. Причём по интонации вопросы на немецком языке звучали более резко и строго, чем в переводе. А что мы могли ответить? Ведь мы сами не понимали даже здесь и сейчас, что сотворили, и не понимали того, за что и почему это с нами так строго обходятся. Ведь нам с Шуркой всего-навсего нужен был кусок чего-то тонкого и чёрного, маняще выделяющегося на заснеженном огороде. Для нас с Шуркой это была очередная обычная детская шалость без технических и тем более идейных задумок и последствий. Поэтому, возможно, ожидаемого немцами ответа на их вопросы «Кто научил? Кто заставил?» от нас с Шуркой получить они не могли. Кончилось тем, что в бригаду-штаб пригласили наших матерей. С ними долго и строго поговорили через переводчика и разрешили забрать нас. Дома мы с Шуркой каждый отдельно получили от мам хорошую порку.
Немецкий туалет
Из всего связанного с немцами вспоминается их туалет. В хуторе в то время и ещё долго после войны никакого водопровода не было, а канализации нет и по сей день. Воду брали из колодца. Колодец был глубиной метров двенадцать и располагался на пустыре (теперь это начало улицы Дружбы, где выстроен храм). Вода была холодной и очень вкусной.
Водолеем на хуторском колодце дед Старченко работал до немцев, при немцах и ещё очень долго после войны. И всё это время с одной и той же неказистой и непородистой лошадёнкой, впряжённой в торец деревянного бруса, соединённого с такой же деревянной осью барабана. Эта гнедая лошадка с лохматой гривой была настолько обучена наматывать обороты большущего барабана, что делала это автоматически, как запрограммированный механизм. Смысл лошадиных круговых оборотов был в том, что надо было сделать определённое их число в одну сторону (пока одна бадья поднимается – трос наматывается, а вторая опускается – трос разматывается) и остановиться именно в той точке, когда поднимающаяся бадья окажется на самом верху, удобном для её опрокидывания и слива воды в короб. После определённой паузы лошадь должна развернуться и отмотать ровно столько же оборотов в другую сторону – назад. При этом бадьи меняются местами: поднимавшаяся будет уже пустой опускаться, а опускавшаяся будет подниматься заполненная водой. Мы, детвора, подолгу наблюдали за этой «автоматизированной системой дед – лошадь» и ну никак не могли понять: откуда лошадь знает, сколько кругов надо намотать, когда и где надо остановиться, сколько секунд держать паузу и когда начинать разворот. Ведь дед никаких голосовых команд лошади не давал. Всё это нас просто поражало, тем более что ответов на наши вопросы мы не находили, и вся эта колодезная круговерть оставалась для нас необъяснимой и загадочной. А «запрограммированный автоматический механизм дед – лошадь» продолжал без сбоев работать ежедневно годами, обеспечивая весь хутор чистой холодной колодезной водой. И уже после войны, в конце 50-х и начале 60-х, другое поколение детворы точно так же, как и мы когда-то, заворожённо наблюдало слаженную работу этого чуда, «механизма дед – лошадь», и искало и не находило ответа на вопрос «Как это получается?».
Так вот, немцы осенью и зимой, но по погоде умывались на улице во дворе колодезной водой, раздеваясь по пояс. Для меня эта их утренняя процедура была непонятна. И уж вовсе абсолютно непонятной была их манера сидения в туалете. Для нас, жителей хутора, особенно детворы, туалетом были кустики в огороде. Правда, в каждом дворе что-то наподобие туалета существовало в виде плетней, жести, досок и других отгородок. Но нигде ни у кого устройств для сидения тогда не было. Немцы же для этой цели вбили в землю на открытом для всех месте нашего огорода перед ещё не убранной кукурузой две рогатулины и на них положили деревянную перекладину. Тогда понять и оценить эту конструкцию и манеру сидения на ней с газетой в руках мне было трудно. Тем более что это делалось в открытом огороде, правда спиной к хате и улице, откуда наш огород полностью просматривался. Поэтому это воспринималось нами, детьми, да и взрослыми, как чудачество.
Ну как так – взрослый дядя на виду у всех снимает брюки и с голой задницей садится на это устройство, не обращая никакого внимания на любого, кто мог это видеть со двора и даже с улицы. Ведь жители хутора, в том числе и дети, в этих случаях прячутся от дворов и улицы за кустики и за всевозможные отгородки. Таков наш менталитет.
Я долго размышлял над этой картиной и пришёл к выводу, что менталитет немцев в этом вопросе ни при чём. Просто нас, аборигенов, они за людей не считали. Для них мы были варварами, стесняться которых ну никак не следует. Нас они воспринимали так, как мы воспринимали курицу, кошку, собаку, козу и другую живность, которая проходит мимо, когда ты сидишь за загородкой и справляешь нужду. Людьми в данном случае в полном смысле этого слова мы для немцев не были. Во всяком случае, мы, хуторские аборигены, для немцев людьми, равными им, не были и не могли быть. А поскольку мы неполноценные люди, то и считаться с нами, и стесняться нас для них, арийцев, не было никакого смысла. Другого объяснения публичного сверкания голыми задницами и абсолютно спокойного справления своей нужды на виду у жителей хутора у меня нет. Нельзя же в этом уподобляться обезьянам, скотине и другим животным. И немецкий менталитет в данном случае ни при чём. В этом, скорее всего, я склонен считать виновной гитлеровскую философию арийского превосходства и тому месту славян, которое им отводилось в этой человеконенавистнической теории и практике её внедрения на оккупированных славянских территориях во время ВОВ.
Правда, здесь можно возразить тем, что всё это они делали и на виду у своих мужчин (немецких женщин за всё время оккупации увидеть не пришлось). Но это является темой их внутренних разборок, для которых немецкий менталитет, возможно, и имеет значение, но культурой цивилизованного человеческого поведения в данном случае и не пахнет. А я же здесь говорю о нашем менталитете и о том, как и почему этот менталитет немцами был полностью игнорирован. Да кто мы такие, чтобы арийцы с нами считались или в данном случае стеснялись нас – вот философия, внедрённая в мозги немецких солдат.
Возможно, я ошибаюсь, рассматривая туалет немецких солдат под таким углом зрения, и делаю из этого достаточно глубокие обобщения и выводы. Но к этому факту я очень часто возвращался в своих воспоминаниях о войне и подолгу размышлял над увиденным тогда. Мой вывод, к которому я пришёл уже достаточно взрослым и на который я, бесспорно, имел основания и право, изложен выше.
Похоронная команда – военный катафалк
С наступлением зимы рядом с нашей хатой практически каждый день останавливалась машина с высокими деревянными бортами и брезентовым тентом, закрывающим весь кузов. По внешнему виду машина была похожа на наш послевоенный ГАЗ-51 или ГАЗ-66 – с такими же деревянными бортами, с открывающейся дверкой на заднем борту. Немецкая машина появлялась примерно в одно и то же время во второй половине дня. Водитель и сопровождавшие его два немца отогревались и отдыхали в соседней хате моей крёстной мамы – тёти Гали по фамилии Прощайло. Меня же раздирало любопытство: что возит эта машина и какой груз находится в кузове под брезентом? А вдруг окажется, что там найдётся что-то съедобное? И вот как-то мне удалось забраться на металлические ступеньки заднего борта машины, оставленной без присмотра под нашим окном. Причём это было зимой, ближе к Новому году, в очень морозный день, когда голыми руками прикасаться к металлическим частям не следует. И я помню, что у меня была для этого одна варежка на две руки. Задняя дверца оказалась не запертой на металлическую защёлку, и я (при моём-то росте!) умудрился её открыть. Та страшная картина, которую я увидел в кузове этой машины, у меня перед глазами и сейчас и останется со мной на всю жизнь.
В кузове по его ширине и длине плотно друг к другу лежали замёрзшие трупы убитых на передовой немцев. Они были сложены штабелем один на другого по высоте в полных два ряда по длине кузова. Об этом можно было судить по высоте штабеля и практически упирающейся в задний борт обувью сложенных трупов. Сверху двух рядов лежало ещё несколько трупов. Трупы лежали ногами, или подошвами обуви, ко мне. Обувь, судя по подошвам, не была стандартной и с разбросом по размерам. Подошвы были чистыми, без грязи, ведь началась зима, и стояли морозы. На многих каблуках блестели отшлифованные металлические набойки. Трупы были сложены без персонального или общего укрытия, каждый в своей военной форме. Сейчас, оценивая возможное количество трупов в той машине, можно утверждать, что тогда их в машине могло быть более тридцати. Причём осенью у моей крёстной этой машины видно не было или, возможно, она была, но не так часто. А вот в зимний период, в декабре, эта машина регулярно курсировала между передовой линией фронта и тылом, и это было видно по почти ежедневным её остановкам для обогрева и обеда шофёра и двух его сопровождавших в доме нашей кумы.











