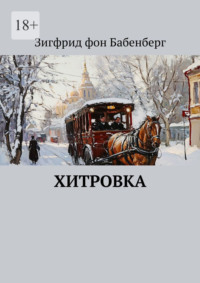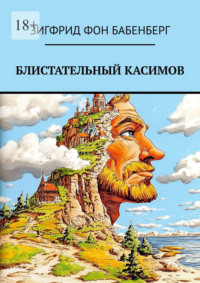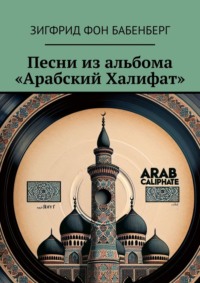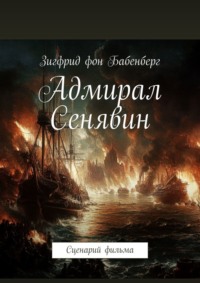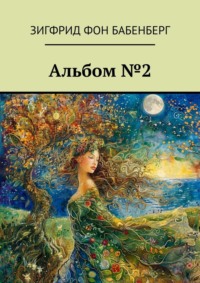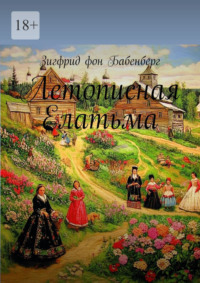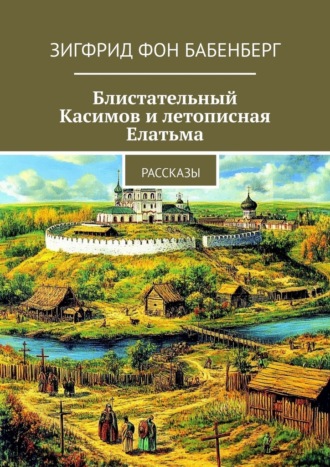
Полная версия
Блистательный Касимов и летописная Елатьма. Рассказы
Возвращена верующим (татарской общине). Минарет снова виден за 10 вёрст. Намаз читают потомки тех самых мурз, что в 1768 году кирпичи носили.
«Что разрушено – восстановится. Что забыто – напомнится» – шепчут стены.
Эпилог. Тени у минарета
Говорят, если встать на закате у мечети, можно увидеть:
Хайруллу Кастрова, пересчитывающего мешки с деньгами (на ремонт). Генерала Симонова, который бессильно бьёт кулаком в запертые двери. Старую плиту, где 17 имён светятся, как звёзды.
А на вопрос: «Кто же спас мечеть?» – ветер с Оки отвечает:
– «Те, чьи имена камень помнит…»
(Конец. Но не истории.)
P.S. Потомки Бектемира-сеида до сих пор живут в Касимове. Если встретите – спросите про мечеть. Они расскажут. Не по книгам – по крови.
«В Касимове даже камни говорят по-татарски» – и это правда.
«Тайна комиссара Скорнякова, или Заговор чугунных перил»
(жуткая, веселая, страшная, ироничная история в красках, лицах, диалогах и интригах)
Глава 1. Дом, который построил Баташов
Касимовская Соборная площадь в тот вечер дышала осенней сыростью. Луна, словно подкупленная, пряталась за тучами, оставляя лишь рваные просветы над особняком Скорнякова. Дом стоял, как надменный старик, – толстые стены, каменные ворота с выщербленными львиными головами, чугунные перила, отлитые на Баташовских заводах. Говорили, что если провести рукой по этим узорам, можно нащупать следы расплавленного серебра – будто бы его подмешивали в металл, чтобы скрыть… ну, это уже зависело от фантазии рассказчика.
– «И чего это ты, Федор Семеныч, стены в два метра толщиной выстроил? От соседей прячешься или от совести?» – подвыпивший купец Губошлепов тыкал пальцем в кирпичную кладку, пока комиссар Скорняков хитро щурился, поправляя орден на груди.
– «От сквозняков, милейший. Да и… касимовские ветра, знаешь ли, бывают злые. Особенно когда с Гуся-Железного дуют».
Тут все закатывали глаза. «Гусь-Железный» – вот оно, запретное слово. Место, где братья Баташовы ковали не только железо, но и судьбы тех, кто знал слишком много.
Глава 2. Лабиринт, которого не было
Прошли годы. Скорняков умер – то ли от апоплексического удара, то ли от ножа в темном переулке (версии расходились). Новый хозяин, купец-старообрядец Ермил Прокофьич, решил перестроить дом.
– «Ломайте стены!» – командовал он рабочим.
Те ломали. И вдруг…
– «Батюшки! Да тут целый коридор!»
За первой стеной открылась вторая. За ней – узкая лестница, ведущая вниз. А там – комната с облупившейся киноварной краской, столом, заваленным желтыми картами, и… тремя скелетами в камзолах екатерининской эпохи.
– «Игроки, что ли?» – перекрестился Ермил Прокофьич.
– «Или проигравшие» – мрачно пробормотал подмастерье.
В углу валялась ржавая чеканка с изображением коня – точь-в-точь как на гербе Скорняковых. Только у этого коня… не было головы.
Глава 3. Призрак лейб-кучера
Ночью Ермил Прокофьич проснулся от стука копыт. Во дворе, где уже сто лет не держали лошадей, кто-то лихо крутил тройку.
– «Эй, хозяин! – раздался хриплый голос из тьмы. – Ты моего коня не видал? Голову ему, сукины дети, отрубили…»
Тень в камзоле и ботфортах шаталась у ворот. В одной руке – кнут, в другой – бутыль с надписью *«Гусь-Железный. Настоящая. 1762 год»*.
– «Это ж… лейб-кучер Скорняков!» – охнул Ермил Прокофьич и рухнул в обморок.
Утром рабочие нашли его в тайной комнате. Он сидел за тем самым столом, перед тремя скелетами, и строчил что-то пером.
– «Что вы тут делаете?»
– «Протокол допроса… Они все признались» – прошептал купец, показывая на кости. «Играли в штос с Баташовым. Проиграли. А потом… увидели, как он фальшивые ассигнации печатает».
Рабочие переглянулись.
– «Ну и?»
– «Их замуровали. А коню… ну, вы поняли».
Глава 4. Веселые похороны
На следующий день Ермил Прокофьич велел заложить тайные комнаты кирпичом. Но когда кладка была готова, со стороны Гуся-Железного донесся звон колоколов.
– «Это же… Баташовские заводы! Они же давно закрыты!»
В тот же миг чугунные перила на лестнице раскалились докрасна и сквозь узоры проступили буквы:
«Кто в доме Скорнякова спрятался – тот от Баташова не укрылся».
Ермил Прокофьич грохнулся на пол. Когда его подняли, он бормотал одно:
– «Коня… Коня!..»
Говорят, его отправили в сумасшедший дом. А дом Скорнякова стоит до сих пор. И если ночью приложить ухо к стене, можно услышать, как где-то внутри шепчутся три скелета:
– «Пасуйте!» – «Козырь!» – «Гусь!»
И тихий смех.
(Конец. Или начало?..)
P.S. Теперь, проходя мимо этого дома, касимовцы крестятся. А чугунные перила… они до сих пор теплые.
«Разбойничья песня, или Как касимовские купцы с призраками торговались»
(продолжение жутко-весёлой саги в красках, лицах и диалогах)
Глава 5
Муромский лес и его мелодичные обитатели
Касимовские купцы славились двумя вещами: умением считать деньги и глупостью, с которой они эти деньги теряли. Особенно – в Муромском лесу. Там, среди сосен, что «стонали, как купцы после бани», орудовал самый вежливый разбойник на Руси – атаман Гурий Поцелуев. Он грабил под музыку. Буквально. – «Стой, купец! – кричал он, выскакивая на дорогу. – А ну, запоешь „Время! веди ты коня…“ – или кошелёк на землю!»
И ведь пели! Касимовские толстосумы, дрожа от страха, затягивали романс Варламова, а Гурий, утирая слезу умиления, отпускал их с миром… но забирал ровно половину товара. – «Искусство, братцы, требует жертв! – объяснял он своим молодцам. – А я, как человек тонкий, жертвую только половиной». Но однажды…
Касимов уездный
Хроники губернского городка
1773 год. Императрица сказала – городок записался – Касимов отныне – уездный город! – возвестил чиновник, размахивая указом. – А что это значит? – спросил купец Абдулла, поправляя тюбетейку. – Значит, теперь у нас герб будет! – радостно воскликнул городничий. – И налоги новые, – мрачно добавил подьячий. Герб, кстати, нарисовали впопыхах: рыба на голубом фоне (потому что Ока рядом) и какой-то якорь (видимо, для солидности).
Касимовские картинки
1812 год. Госпиталь в трактире «У Перекатова» – Ваше благородие, да он же весь в червях! – фельдшер Степан тычет пальцем в рану гусара. – Черви рану вычищают, – студент Достоевский (будущий знаменитый врач) равнодушно отливает водку в чайник. – Главное, чтоб не сбежали. На соседней койке унтер кричит: – Сестру! Сестру милосердия! – Какая тебе, сука, сестра? – орет из-за перегородки солдатка Дарья. – Я за три дня семерых отпоила, теперь сама как шальная!
В углу дьячок из Богоявленского монастыря пытается соборовать умирающего француза: – Репетируй за мной: «Господи, помилуй мя…»
Француз блеет: – «Жё… мё… па…»
1861 год. Касимовский базар в день отмены крепостного права – Значит, я теперь свободный? – мужик Еремей щупает свой живот, будто ищет, где там воля зашита. – Свободный, – подтверждает пристав, забирая у него последний гривенник. – Теперь можешь свободно помирать с голоду. Татарин Ахмет торгует воблой: – Бери, крестьянин! Первая вобла свободного человека!
У кабака «Ока» бывший крепостной художник Макар рисует портрет барина: – В профиль, вашескородие? – В профиль, но чтоб все ордена были анфас!
1897 год. Вечер в трактире «Стрелка» – Я тебе какой гвоздь дал? – кузнец Герасим тычет пальцем в стол. – Самый что ни на есть касимовский! – Он у меня в бочке с селедкой три месяца пролежал, – огрызается рыботорговец. – Теперь вся селедка на гвоздях!
В углу два семинариста спорят: – В Питере, говорят, электричество есть! – Врешь! Это у немцев. У нас если и будет, то только для губернатора. На улице пьяный чиновник целует будку: – Милая моя канцелярия…
1910 год. Железнодорожная лихорадка – Паровоз будет! – мальчишки носятся по Старому Посаду. – От Рязани до нас рельсы кладут!
Старый Юсуф сидит у минарета, поплевывает в сторону Оки: – При ханах я на коне за два дня до Казани доезжал. А эта ваша железяка только дымить умеет. В редакции «Касимовского листка» журналист Смирнов сочиняет: – «Наш город, украшенный древними памятниками, с нетерпением ждет цивилизации…»
Редактор перечеркивает: – Напиши проще: «Ждем, когда наконец водку по железной дороге возить станут». Эпилог
На рассвете у пристани возятся грузчики. Один, почесывая спину, говорит: – Слышь, Петрович, а правда, что тут цари татарские были? – Были, – зевает Петрович. – Только водку, слышь, не пили. Глупые были. Река несет щепки, обрывки газет, объедки воблы. Где-то кричит чайка. Город живет.
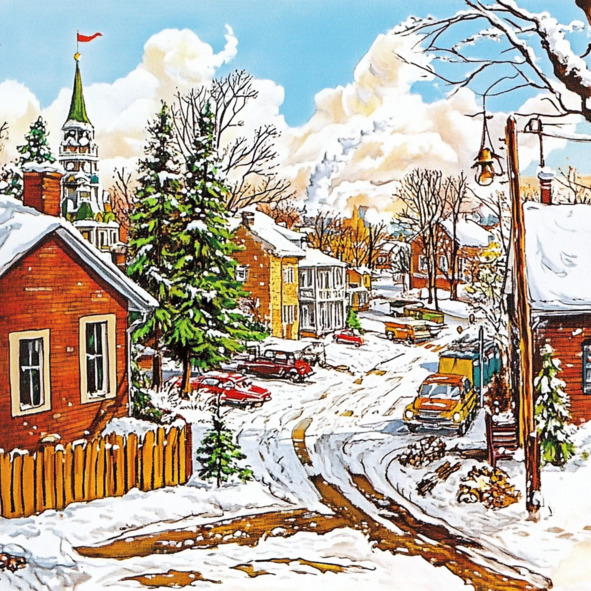
КАСИМОВ: ДРЕВНОСТЬ И ЧИПСЫ
(Современные легенды уездного города)
1. Вокзал, где время застряло
На станции «Касимов» – тишина, как в музее. Раз в день сюда приползает поезд из Шилово, выпуская трех пассажиров:
– Бабушку с сумкой-тележкой («За лекарствами езжу! В городе аптека одна – да и та гомеопатия!»); – Парня в камуфляже («А че, билет дешевый»); – Туриста с фотоаппаратом («Вы не знаете, где тут ханские бани?»).
Кассирша Зинаида Петровна, разминая затекшие ноги: – В 1980-м тут толпы были! На пляж ехали, на теплоходы… А теперь – на тебе, «Московская кругосветка». Круизник раз в неделю причалит – немцы фоткают минарет и бутерброды жуют.
2. Музеи: где самовары важнее ханов
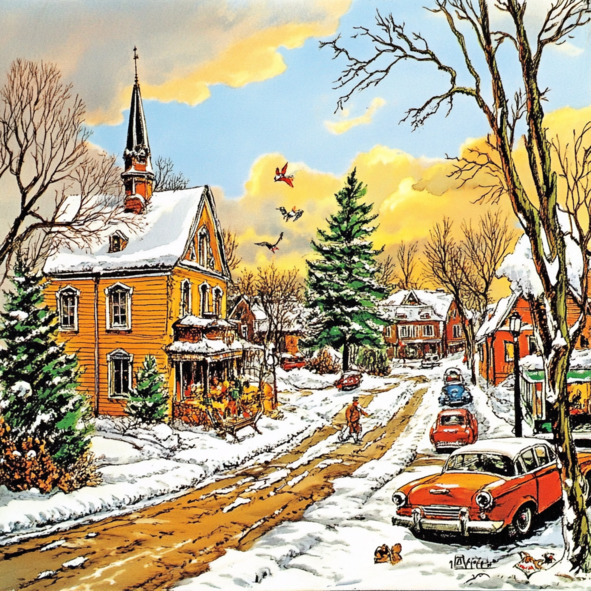
В «Русском самоваре» экскурсовод Лида тычет указкой в раритет: – Этот красавец 1778 года! В него Иван Грозный, может, чай наливал!
– Так он же в Казани был… – бормочет школьник.
– Молчи! У нас тут легенда!
В углу скучает «гигантский самовар на 4 ведра» – когда-то поил весь вокзал, а теперь в него кидают монетки «на счастье».
Рядом – Музей колоколов. Главный экспонат: – Колокольчик времен Грозного! – …оторванный от кошачьей шеи в 1992-м.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.