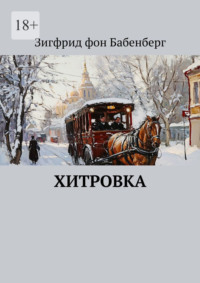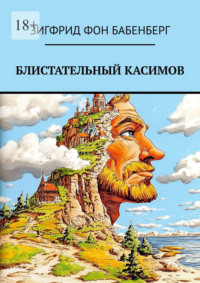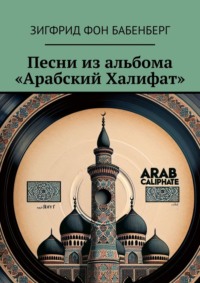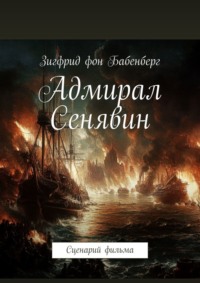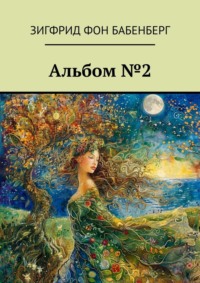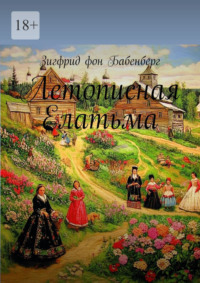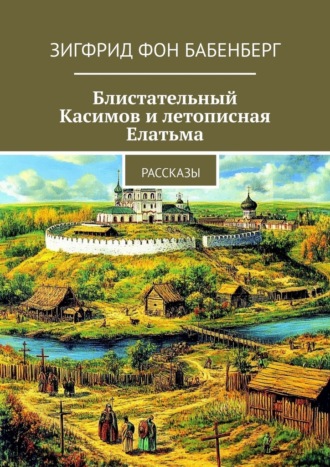
Полная версия
Блистательный Касимов и летописная Елатьма. Рассказы
«Ваше величество, – докладывает нукер, – самозванец предлагает союз.»
Хан медленно поглаживает бороду. Лжедмитрий… Рискованно. Но Шуйский – ещё опаснее.
«Готовьте коней, – решает он. – Мы едем в Тушино.»
Глава 5. Охота на хана
Ноябрь 1610 года. Тушинский вор уже не скрывает подозрительности.
«Поедем на охоту, кузен, – улыбается он Ураз-Мухаммеду. – Обсудим дела без лишних ушей.»
Лес. Мороз. Внезапный удар ножом в спину.
«За что… – хрипит хан, падая на снег.
«За то, что ты настоящий, – шепчет убийца. – А мы все здесь – самозванцы.»
Глава 6. Кара
11 декабря 1611 года. Лжедмитрий II наслаждается зимней прогулкой. Внезапно ногайский князь Урусов выхватывает саблю:
«Это за Ураз-Мухаммеда, собака!»
Голова самозванца катится по снегу, оставляя кровавый след. Месть свершилась.
Эпилог. Камень памяти
1850 год. На заброшенном кладбище Касимова находят надгробие с высеченной надписью: «Здесь лежит хан Ураз-Мухаммед, предательски убитый 22 ноября 1610 года.»
Старый мулла качает головой: «Он был последним настоящим ханом. После него Касимов стал просто… городом.»
Ветер шевелит высохшую траву у могилы. Кажется, слышен топот конницы – то ли воспоминание, то ли предвестие. Ведь история, как известно, имеет свойство повторяться…
КАСИМОВСКАЯ НЕВЕСТА
(Страшная повесть о царевой избраннице)
Часть первая. Выбор
1647 год. Москва. В палатах царя Алексея Михайловича пахнет воском, ладаном и женским потом. Двести девиц, собранных со всей Руси, стоят, потупив взоры.
– Эта слишком полная, – шепчет боярин Морозов, указывая на рязанскую боярышню. – А у этой родинка на щеке – к бедам, – кивает духовник.
Но юный царь вдруг останавливается перед Афимьей Всеволожской – дочерью касимовского воеводы.
– Ты откуда? – спрашивает он. – Из Касимова, государь, – девушка едва дышит.
И тут происходит невозможное – царь протягивает ей платок и кольцо.
Придворные бледнеют.
Часть вторая. Заговор
В теремных сенях шепчутся: – Касимовская?! Да её отец – хуже татарина! Он в лесных разбойниках шатается! – Говорят, он у себя в уезде колдунов укрывает…
А в покоях царевен три боярыни толкут в ступке корешки: – Белый аконит, черный корень… – Да не жалей, подсыпь ещё! Чтоб не очнулась!
Часть третья. Обморок
День обручения. Афимью ведут под руки в парчовом наряде, усыпанном жемчугом из касимовских кладов.
– Готова ли? – спрашивает царь.
И тут…
Девушка вдруг вскрикивает, хватается за горло и падает как подкошенная.
– Бес в неё вселился! – орет поп. – От радости помутилась! – лжёт боярин Морозов.
Но шведский посол записывает в дневник: «Руки у неё посинели, как у удавленницы…»
Часть четвёртая. Возвращение
Через месяц в Касимов въезжает чёрная повозка. Вышедшая из неё Афимья – бледная тень прежней красавицы.
– Что с тобой? – плачет отец. – Отравили… – шепчет она. – За то, что не боярская…
Наутро воевода Всеволожский уходит в мещёрские леса – искать травников, что могут спасти дочь.
Но поздно.
Афимья умирает в ночь на Купалу. Говорят, перед смертью смеялась и звала царя играть в горелки.
Часть пятая. Проклятие
С тех пор:
Каждый год 6 июня (день обручения) в Касимове находят мёртвых голубей с переломанными крыльями. В бывшем воеводском доме (ныне музей) по ночам слышится смех. А если встать у развалин ханской бани в полнолуние – можно увидеть тень девушки в свадебном наряде.
Она всё ещё ждёт, когда за ней приедет царский поезд.
Только не везите её в Москву.
КРОВЬ И КАМЕНЬ
(Последние дни ханского Касимова)
1681 год. Татарская слобода. Ночь перед Успением
Фатьма-Султан сдирает с шеи жемчужное ожерелье – подарок покойного мужа. На столе:
Распятие (тайно купленное у армянского купца)
Нож (на случай, если не поверят словам)
Чернильница (чтобы написать царю)
В дверь стучат трижды – как тогда, когда принесли весть о смерти сына.
– Входите, – говорит она по-татарски, пряча крест в складках халата.
Тени убийц скользят по стенам. Последнее, что видит ханша – отражение в медном тазу:
Собственные глаза (широкие, как у затравленной ланчи)
Кривой ятаган (который когда-то висел в тронном зале)
Утром объявляют: – Скончалась во сне от сердечной немощи.
Но в Пушкарской слободе уже топчутся лошади московских дьяков – забирать ханскую казну.
1700 год. Пьяный звонарь и «нарышкинские штучки»
Купец Гагин (потомок тех самых касимовских Гагиных, что лили колокола для Ивана Грозного) бьет скребком по известняку:
– Не по-нашему! – орут староверы. – Узоры эти – бесовские!
Но Иродион уже видел Москву. Он знает:
Кудри каменные – теперь в моде
Кокошники над окнами – царь одобряет
Ангелы с пухлыми щеками – чтоб не как у татар, безликие
Когда первую службу служат, под куполом вдруг раздается хохот – это пьяный звонарь Титка залез на хоры:
– Эй, Гагин! А где же полумесяц-то?
Храм стоит. Полумесяц (который триста лет венчал минарет) валяется в овраге.
ЧТО ОСТАЛОСЬ
Призрак Фатьмы (ходит по ночам между мечетью и церковью, ища то ли крест, то ли ятаган)
Кровь в трещинах Георгиевского храма (если приложить ухо, слышно татарское проклятие на смеси трех языков)
Дух Гагина (стучит молотком по новостройкам – проверяет, нет ли «басурманского» стиля)
А минарет все еще смотрит на Оку. Как свидетель. Как обвинитель.
P.S. В 2003 году археологи нашли под алтарем Георгиевской церкви:
Женский череп (без нижней челюсти)
Обрывок шелковой ткани (с арабской вязью: «Нет бога кроме…»)
Реставраторы быстро замуровали находку. Слишком уж она портила «нарышкинский» стиль.
Алянчиковы: от хомутов до хересов»
(подлинная касимовская сага с прибаутками да нравоучениями)
I. Как ханшу ослушались
«Времена оны, когда ещё ханша Фатьма-Султан-Сеитовна по Касимову в золочёной колымаге разъезжала, да не на клячах, а на людях запряжённых, случилось неподобное дело…»
Подъехала как-то к роду Алянчиковых (тогда ещё просто «чёрным людишкам»): – «Впрягайтесь!» – молвила ханша. – «Не впряжёмся!» – отвечают. – «Ах вы, аляны!» – всплеснула руками Фатьма (что значит «лентяи» по-татарски).
С той поры:
Ханша – пешком. Семейство – прозвано Алянчиковыми. Город – избавлен от унизительных упряжек.
«Кто бунтует – тот богатеет» – гласит касимовская пословица.
II. Винные фокусы
«Не было у барина гроша, да вдруг алтын» – так и Алянчиковы из бунтарей да в винные короли выбились.
Иван Осипович Алянчиков – фигура! Городской голова (два срока!). Первый поклон на улице – ему, а не городничему. В собор входит – народ расступается, как перед архиереем.
«Деньги – смола: к чему пристанут, то и вытянут» – смекал Иван Осипович, скупая винные откупа.
III. Дети-вольнодумцы
«Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу» – но с детьми вышел конфуз.
Яков да Николай Алянчиковы, начитавшись французских энциклопедистов: Бога отрицают (ужас!). Власть критикуют (скандал!). По трактирам философствуют (позор!).
Отец, человек простодушный, лишь крестится: – «Батюшки, протопоп! Уйми их, ради Христа!»
«Дитя не мыто – не кутит, а как вымоют – не уймёшь» – вздыхали касимовцы.
IV. Дом-недоделка
«Хоромы – что сарафан: и красота, и обуза» – а у Алянчиковых и вовсе история с предсказанием.
Особняк на берегу Оки (Гагин проектировал!): Подвал – лавки да склады («деньги любят прохладу»). Первый этаж – конторы («счёт да мера – дуракам вера»). Второй этаж – бальные залы («пируй, да долгов не забывай»). Бельведер – для вида да раздумий («выше крыши – ближе к греху»).
Но! Гадалка на базаре накаркала: – «Достроишь дом – помрёшь!»
Иван Осипович – хитрец: Портики – долой! Балконы – не надо! Галереи – и так сойдёт!
«Судьбу не обманешь, а попробовать можно» – усмехнулся он… и всё равно умер.
.Наследие
«Что было, то прошло, а что будет – Бог весть» – ныне от дома-легенды остались: Стены – потрескавшиеся. Слава – не забытая. Анекдоты – вечные.
«Алянчиковы жили – шумели, а мы их помним – да не тужим» – говорят в Касимове.
P.S. Говорят, дух Ивана Осиповича до сих пор бродит по Оке и считает упущенную прибыль. А сыновья-вольнодумцы в полночь читают Вольтера в руинах бельведера.
«И чёрт с ними, с алянами!» – вздыхает тень ханши.
(Конец. А может, начало новой купеческой саги?..)
Мораль:
Бунтуй – но с умом. Детей учи – да сам не зевай. Дом строй – но гадалкам не верь.
Мишари: кровавый рассвет над Касимовом»
(история исхода, рассказанная у догорающего костра)
1768 год. Касимов. Последний рассвет ханского города.
Дым от горящих архивов стелился по Соборной площади. Генерал Симонов, облизывая губы, наблюдал, как его солдаты выламывают резные плиты из стен Ханской мечети.
«Ломайте быстрее! К утру чтоб и камня на камне!»
Из толпы вырвался седой мурза в порванном халате: «Это наши предки строили! Ты что делаешь?!»
Ответом был пистолетный выстрел.
«Три дня спустя. Тайный сход у реки.»
Десять семей собрались в лощине. Впереди – Бектемир-сеид с перевязанной головой.
«Слушайте все! – его шёпот резал темноту. – Москва отняла у нас всё: мечеть, земли, честь. Но не отнимет последнее – нашу кровь.»
Из толпы выступила молодая женщина, прижимая к груди ребёнка: «Куда нам идти? В лесах – разбойники, на дорогах – драгуны!»
Старый кожевенник хрипло рассмеялся: «А помните Сафаджай? Там ещё наши живут. Там… мы сможем начать снова.»
«Дорога. Первая смерть.»
Шли ночами, прятались днём. На третий день наткнулись на казачий разъезд.
«Стой! Кто такие?!»
Бектемир шагнул вперёд, прикрывая женщин: «Просто люди, ищем новую…»
Выстрел оборвал фразу. Пуля прошла навылет.
«Бегите! – закричал он, падая. – Пока я…»
Второй выстрел добил его. Но его жертва не была напрасной – остальные успели скрыться в лесу.
«Сафаджай. Первая ночь на новом месте.»
Измождённые путники стояли перед воротами села. Навстречу вышел бородатый старик с мушкетом.
«Откуда?»
«Из Касимова…»
«Касимова? – лицо старика исказилось. – Да его же вчера…»
Женщина упала на колени: «Нас всего двадцать. Детей спрятали…»
Тишину разорвал детский плач. Старик опустил мушкет.
«Чёрт с вами. Заходите. Но запомните – здесь вы теперь мишари. Касимов – мёртв.»
«Эпилог. 1812 год. Сафаджай.»
У старой мечети стоит юноша. На нём – новенький мундир Нижегородского ополчения.
«Ты правда пойдёшь воевать за них? – шипит седая старуха. – Они же…»
«Бабушка, – он поправляет эполет, – я иду воевать не за них. Я иду убивать тех, кто сжёг наш Касимов.»
На стене мечети едва видна старая надпись: «Бектемир-сеид. 1768. Помните».»
(Конец. Или начало новой мести?..)
Слово о Касимове в державе Российской
(Пишучи сие, перо в чернила обмакиваю, да поминаю, как град сей в лоно государства Российского пришел…)
О пресечении ханского рода
В лето 7189 от Сотворения мира (1681 от Рождества Христова) преставилась последняя владетельница Касимова, Фатима-Султан бинт Шах-Али, и не осталось более наследников по крови ханской. Тогда Благочестивейший Государь Феодор Алексеевич указал: Ханство Касимовское упразднить
Земли приписать к дворцовым волостям
Татар вельможных в службу государеву взять
И разошлись последние мурзы да беки – кто в Москву, кто в Казань, а иные и вовсе в степи дикие. О строениях ханских
Осталось же от времен тех: Минарет каменный времен царевича Касима – стоит и ныне, хоть и без мечети (разобрали ее в смутные времена)
Две текии (мавзолеи царские), где лежат: Шах-Али хан
Афган-Мухаммед султан
Мечеть новая, что выстроили уже при царе Михаиле Феодоровиче
(Проходящий мимо старец кашляет в кулак и бормочет: «А все стояло бы как новое, кабы не наши воеводы-казнокрады…")
О устройстве градском
В XVII веке делился Касимов на три части: Татарская слобода да Старый Посад
Там жили князья татарские
Судились по Шариату
Платили ясак особый
Ямская слобода
Под Москвою прямо
Ямщики – народ буйный да пьяный
Судил их Приказ Ямской
Прочие слободы (Марфина и иные)
Под воеводою касимовским
Жили стрельцы да посадские
Правду творили по Судебнику
(Тут писец делает пометку на полях: «А слобода Марфина – там ткачихи жили, што царю ризы шили»)
О губернском устроении
В лето 7227 (1719) Петр Алексеевич, император всероссийский, указал: Касимов к Переяславль-Рязанской провинции приписать
Воевод сменить на комендантов
Татар княжеского рода в ревизские сказки вписать
И пошел град жить по-новому – уже не ханская столица, но уездный городок в губернии Московской. (На сем и закончу, ибо чернила сохнут, а глаза устали. А кто читать будет – помяни добром старых ханов касимовских, ибо и они часть земли Русской стали.)
Конец слова
Касимов: Угасание ханства
1681 год. Последняя зима Фатимы-Султан
Дым от печей стелился низко над слободой, смешиваясь с утренним туманом. Фатима-Султан, последняя правительница Касимова, сидела у резного окна, обхватив колени иссохшими руками. За стеклом – знакомый с детства минарет, тот самый, что возвел ее прадед. – Ханство кончилось, госпожа, – шептал старый мулла, поправляя ей подушки. Она молчала. В горле стоял ком – не от болезни, а от обиды. Москва давно правила здесь, но хоть титул оставили. А теперь и этого не будет. – Скажи Ахмету, пусть готовит карету. Поеду в Москву – кланяться царю. Голос ее звучал спокойно, только ногти впились в ладони до крови. Старый Посад. Вечер того же дня
В татарской слободе уже знали. Купец Абдулла, разгружая тюки с шелком, сплюнул сквозь зубы: – Ну и что? Москва и так всем заправляла. Теперь просто бумажка появится. – Не в бумажке дело! – взвизгнула старуха Зулейха, разливая чай. – Без ханского двора кто мечети содержать будет? Кто суды по шариату проводить? Скоро и минарет этот снесут!
Молодой мулла Юсуф мрачно потупился. Он-то помнил, как десять лет назад воевода приказал снять полумесяц с мечети – «чтоб не слишком высоко был». Ямская слобода. Кабак «У трёх дорог» – Значит, теперь мы – прямые холопы государевы? – хрипел ямщик Гаврила, опрокидывая чарку. – Ага, – усмехнулся подьячий Митяй, – только не холопы, а «верные слуги». И подати на три алтына больше. Из угла донесся хриплый смех: – Зато татарв этих князей наконец по струнке! Теперь у них ни земель, ни судов своих. Как все. Тишина. Кто-то негромко чертыхнулся. Все знали – касимовские татары хоть и «басурмане», но своих в беде не бросали. А вот от московских приказных такой милости ждать не приходилось. Марфина слобода. Ткацкая мастерская – Слышала? – шептала девка Арина, сматывая пряжу. – Говорят, теперь воевода один на весь город будет. И судить всех по-своему. Старая ткачиха Марфа, не поднимая глаз: – А нам-то что? Мы и при татарах ситцы ткали, и при воеводах будем. Только подати, поди, опять поднимут…
За окном зазвонили к вечерне. Колокол Успенской церкви и крик муэдзина с татарской стороны слились в странный, дисгармоничный звон. 1719 год. Приезд государева чиновника – Слушай указ! Отныне Касимов – часть Переяславль-Рязанской провинции!
Толпа молчала. Кто-то сзади пробормотал: – Опять переписывать нас будут…
Чиновник, морщась от ветра, развернул свиток: – Все прежние льготы татарских мурз – отменить. Земли перемерить. Ревизские сказки составить!
У мечети стоял Юсуф – уже седой, с глубокими морщинами. Он смотрел на минарет, на мавзолеи предков, и думал о том, что теперь все это – просто «достопримечательности». Не память о царстве, а «бывшие ханские постройки». – Аллах даст, хоть стоять будут, – прошептал он и пошел записываться в новую ревизию. Эпилог. 1720 год. Рыночная площадь
На базаре по-прежнему торговали и татары, и русские. Только теперь: – Эй, мурза! – кричал воеводский пристав. – Плати пошлину как все! – Я не мурза, – устало отвечал старик в поношенной чалме. – Я теперь купец второй гильдии. По новым законам. А на окраине, у мавзолея Шах-Али, играли дети – и русские, и татарские. Им было все равно, чьи это кости лежат в камне. Главное, что холм удобный для катания. Ветер крутил пыль над площадью, смешивая обрывки татарской речи, русский мат и немецкие команды артиллерийских офицеров – Петр любил отправлять сюда «на практику» иноземных специалистов. Касимов больше не был ханством. Он стал просто местом на карте – со своей пестрой, неудобной, но уже общей историей.
КАМЕННЫЙ ШУТ
(Последняя шутка Ивана Балакирева)
1740 год. Касимов. Татарская гора
Бывший царский шут Иван Балакирев покупает целый воз сена – вместе с телегой, колесами и кривым татарским возницей.
– Выпрягай кобылу! – командует он, поправляя прапорщицкий мундир, в котором уже три года не мылся.
Толпа собирается на обрыв: – Опять дурачится…
Телега с воем летит в Оку. Сено взрывается золотым смерчем. Татарин крестится (хотя он мусульманин).
– Вот вам и ханская потеха! – хохочет Балакирев, швыряя в толпу серебряные кресты (украденные у попа).
ТРИ ЖИЗНИ ОДНОГО ШУТА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Носил любовные записки Екатерины к камергеру Монсу
Когда Монсу отрубили голову, молчал под батогами (хотя мог бы выгородиться)
Получил в награду: Прапорщика (чтоб знал свое место)
Касимов (чтоб подальше от дворца)
ХАНСКАЯ
Жил в бывших ханских палатах (где ползал по коврам и лакал кумыс из ханской чаши)
Развлекался: Кормил свиней в мечети
Кричал «Аллах акбар!» во время церковной службы
Заставлял татар петь русские частушки
КАМЕННАЯ
Умер в одиночестве, обняв надгробную плиту (которую сам себе выбил)
На плите написано: «Здесь лежит шут. Наконец-то серьезный»
В 1950-х плиту нашли под алтарем Георгиевской церкви
Священник велел закопать обратно («Нечистое тут лежит!»)
Но по ночам: Слышен хохот из-под пола
Кресты на иконах переворачиваются вверх ногами
А если оставить у алтаря рюмку водки – к утру она будет пуста
P.S. Говорят, Балакирев так и не умер. Он просто притворился камнем – чтобы посмотреть, что будет дальше.
(И ему нравится то, что он видит.)
«Касимовская твердыня, или Как татары генерала посрамили»
(быль-притча о вере, ярости и камнях, что кричат, когда люди молчат)
I. Генеральский каприз
«Лета 1768-го, когда ещё Касимов ханской солью да медными котлами славился, вздумал генерал Симонов богоугодное дело свершить…»
Явился он к Ханской мечети (что стояла четыреста лет – дольше, чем вся его родословная), да как гаркнет: – «Разобрать! На кирпичи! Абы порядок был!»
«Порядок» сей заключался в том, чтобы:
1. Минарет – долой («Высоченный, ровно стрела в небо – не по чину!»).
2. Стены – на казённые амбары.
3. Святые плиты – под мостовую («Пущай православные попирают!»).
II. Мурзин гнев
«Не тронь старого камня – сам в прах обратишься» – предупредил генерала мурза Бахтияр (потомок тех самых ханов, что Оку крестили).
Но Симонов ухом не повёл: – «Каменщиков! Ломы! Живо!»
Утром подрядчик Иван Кривой (прозванный так за привычку к казнокрадству) уже ковырял стену…
III. Кара Аллаха
«Кто мечеть ломает – тот себе могилу роет» – проворчали старики.
И не соврали: К полудню Кривого схватили у Торговых рядов. Связали руки верёвками (как настоящему разбойнику). Отдубасили так, что «едва душа в теле осталась».
«Привели в канцелярию – а он сизый, как баклажан в постный день» – записал испуганный подьячий.
IV. Камень падает – вера остаётся
«Сила – что дождь: шумит громко, да быстро уходит» – но генерал упёрся:
1. Каменщиков прислал новых (из Рязани – «татарского страха не ведающих»).
2. Мечеть – всё равно разобрал (кирпичи в губернаторский погреб увёз).
3. Мурзе – выговор («Бунтовщик!»).
Но!
Через год Симонов сгорел от неизвестной болезни (шептались – «аллах покарал»). Кирпичи из мечети пропали (то ли в Оку сбросили, то ли тайком в кладку новых домов вмуровали). А память – осталась.
«Разрушишь мечеть – не разрушишь веру» – гласит старая татарская пословица.
V. Эпилог
Ныне на том месте: Трава растёт гуще, чем во всём городе. Старики клянутся, что в полночь слышен азан (зов на молитву). А генеральские потомки… из Касимова съехали.
«Камень – немой, да правду скажет» – вздыхают касимовцы.
P.S. Говорят, если приложить ухо к старой кладке в центре Касимова, можно услышать, как Кривой подрядчик стонет:
– «Ой, не надо! Я больше не буду!»
А тень мурзы ему в ответ:
– «Знать бы да ведать!»
Мораль:
1. Не трогай святыни – даже если погоны звенят.
2. Гнев веры – тише грома, да крепче гранита.
3. Историю можно сломать, но не переписать.
«Касимов помнит всё» – даже то, что власти хотели бы забыть.
Мечеть, которую не сломили: как касимовские мурзы камни в правду превратили
(история возрождения, записанная в камне и памяти)
Глава 1. Купец, купивший святыню
1768 год. Разрушено – но не покорено.
Едва генерал Симонов кирпичи вывез, как касимовский купец Хайрулла Кастров (человек с деньгами тугой мошной да совестью чище речного жемчуга) выкупает землю под мечетью.
– «Не бывать святому месту пустым!»
А следом – императорский указ (то ли совпадение, то ли мурзы в Петербурхе шепнули).
Глава 2. Каменная летопись
Надпись у входа, выбитая в 1182 году хиджры (1768):
«Соорудили: Бектемир-сеид, Бурхан-сеид, Ибрагим мурза Чанышев, Абдулла-мурза…»
(и ещё 12 имён – все знатные, все – потомки ханов и воинов)
Что знаем о них? Сеиды – потомки Пророка. Мурзы – дворяне Касимовского ханства. Чанышевы, Максютовы, Шакуловы – фамилии живы до сих пор.
«Кто камни кладёт – тот имя своё в вечность вкладывает» – гласит татарская мудрость.
Глава 3. Как строили?
Археологи раскопали правду:
Первая мечеть (XVI век): Один этаж. Чернолёная черепица (как у ханских бань). Стрельчатый вход – «словно сабля в ножнах».
После 1768 года: Снова один этаж (денег хватило только на деревянный тёс вместо крыши). Скромно, но крепко – «как вера в сердцах».
XIX век – роскошь: Два этажа!
Железная крыша с золотым полумесяцем (чтобы «луна над Касимовом – своя была»).
Глава 4. Почему Пётр I ни при чём?
Миф: «Пётр мечети рушил!»
Правда:
Пётр I в Касимове не был (да и татар уважал – своих мусульман-гвардейцев имел). Разрушил только Симонов – обер-шталмейстер (начальник конюшен!), возомнивший себя царём.
«Конюх святыню ломает – да только себя позорит» – смеялись потом татары.
Глава 5. Мечеть сегодня