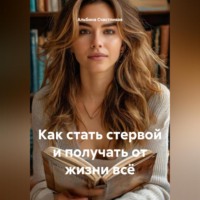Полная версия
Мама, я в депрессии
– Ну, рассказывай. Как терапия? Страшно смотреть, как они людей лечат! – Ее голос звенел фальшивым сочувствием, за которым тут же вылезло привычное: – Я же тебе говорила, Алина! Говорила!
– Что говорила, мама? – выдохнула я. Голос – хриплый, еле слышный.
– Что говорила?! – она всплеснула руками. – Что здоровье – не железное! Что надо беречься! А ты? Развод! Скандалы! Потом – этот… – она бросила быстрый, ядовитый взгляд на Марка, – …этот мальчишка! Муж моложе – это же сплошные нервы! Истерики! А дети? Где дети-то, Алина? Вот они – опора были бы! А у тебя – что? Пустота!
Каждое слово – удар. Точно в цель. Развод. Мальчишка. Дети. Пустота. Она методично тыкала пальцем в самые больные раны.
– Мама… – попытался вставить Марк, его голос дрожал. – Алине и так тяжело…
– Тяжело?! – она резко повернулась к нему. – Марк, дорогой, я понимаю, ты молодой, тебе сложно! Но кто, как не мать, скажет правду? Она сама довела себя до этой жизни! До этой… болезни!
Она произнесла слово «болезнь» с таким презрением, будто это было что-то постыдное.
Тошнота подкатила к горлу волной. Горькая слюна. Голова закружилась. Я вцепилась в стол еще сильнее.
– А теперь лежишь, бедная… И мы, старики, волнуемся! Сердце у меня колотится, у Коли давление скачет! Ты же нас, родителей, в могилу сведёшь своими проблемами!
Голос её стал пронзительно-жалобным. Вечная жертва. Из-за меня.
В дверях появился отец. Николай Иванович. Стоял, как тень. Сумка с какими-то банками в руке. Его лицо – каменное. Глаза смотрели мимо меня.
– Ну вот и Коля пришел! – заверещала мать. – Скажи ей, Коля! Скажи дочери, как мы из-за неё страдаем! Как волнуемся!
Отец кашлянул.
– Ну… мать волнуется… – пробормотал он. – Надо… терпеть…
Терпеть. Еще одно магическое слово. Как будто у меня есть выбор.
Я не выдержала. Тихий, срывающийся шепот:
– Вы… зачем пришли? Чтобы… напомнить, что я… сама виновата? Чтобы… сказать, что я вас в могилу сведу?
Мать замерла. Ее глаза округлились.
– Алина! Да как ты можешь?! Мы же из заботы! Мы же переживаем! Хотим помочь!
– Помочь? – я с трудом подняла на нее глаза. Мир плыл. – Ваша помощь… ваша забота… она всегда… как яд…
Отец отвернулся. Мать вскочила. Лицо ее покраснело.
– Вот благодарность! Коля, ты слышишь? Мы – яд! Мы, которые всю жизнь…
Она задохнулась от гнева.
– Хорошо! Хорошо! Не нужны мы тут! Марк, подавай мое пальто! Видно, наша дочь слишком гордая для родительской поддержки! Сама наворотила делов, теперь и расхлебывай!
Она швырнула эти слова, как камни. Марк, бледный, подал ей пальто. Она натянула его с яростью. Отец молча последовал за ней к выходу.
– Выздоравливай, – бросила она уже из прихожей. Слово прозвучало как проклятие.
Дверь захлопнулась. Гулко. Окончательно.
Тишина. Но теперь – другая. Насыщенная ядом. Отравленная. Я сидела, не двигаясь. Чувство вины. Глубокое, въевшееся в кости. Как будто они были правы. Марк стоял в дверях кухни. Смотрел на меня. В его глазах была боль. Растерянность.
– Аля… – начал он.
Я покачала головой. Не могла говорить. Комок в горле. Я попыталась встать. Ноги не держали. Мир резко накренился, потемнел. Я услышала испуганный вскрик Марка, почувствовала его руки, ловящие меня.
Он подхватил меня, понес на диван. Я не сопротивлялась.
– Вызови врача… – прошептала я, когда он уложил меня. Голос еле слышный. – Давление…
Побочка. Терапия. Стресс. Визит. Все смешалось. В висках стучало. Но хуже всего было это чувство. Это гнетущее, всепоглощающее: «Я довела их. Я – ядовитая. Мама права».
Марк суетился, звонил кому-то. Его голос дрожал. Я лежала, уставившись в потолок, чувствуя, как яд, влитый родной матерью, разливается по венам, смешиваясь с терапией и черной пустотой. И этот яд был самым горьким. Самым убийственным. Потому что в него, в эту ложь о моей виновности во всем, я верила. Глубоко.
Она приехала «проведать». И добила. Как всегда.
Глава пятая
Тишина после родительского нашествия была гулкой, как в склепе. Врач приезжал – участковый, вечно невыспавшийся. Помял, послушал, померил давление.
– Стресс, конечно. Побочка терапии. Отлежитесь. Успокоительное примите, если есть.
Марк судорожно кивал. Я лежала, притворившись спящей, глотая комок вины и яда, что мать влила в меня. Вина была липкой, как пролитое варенье. Яд – горьким, как желчь.
Давление отпустило к вечеру, оставив после себя чугунную тяжесть в висках и слабость во всех конечностях. Ту самую, когда кажется, что кости растворились, а тело – мешок с мокрым песком. Марк, бледный и молчаливый, принес тарелку бульона. Я сделала два глотка. Металлический привкус терапии смешался с куриным – получилось нечто тошнотворно-железное. Отодвинула. Он не стал настаивать. Унес тарелку, спрятался в своей комнате за монитором. Бегство. Я не винила.
Ночь провалилась в черную бездну бессонницы. Не кошмары. Пустота. Абсолютная. Как будто мозг отключили. Я лежала, уставившись в темноту, слушая, как Марк ворочается в соседней комнате, его прерывистое дыхание. Не спал и он. Двое в аду, разделенные стеной. Мысль о таблетке из рецепта Семенова снова мелькнула и утонула. Страх. Что, если она не заглушит боль, а выключит меня совсем? Сделает растением? Рисковать было страшнее, чем терпеть знакомый ад.
Утро приползло серое, слякотное. Я доползла до ванной. Посмотрела в зеркало. Все та же. Парик съехал. Поправила. Движение – медленное, как под водой. В голове – туман. Тот самый, густой и ватный, от которого мысли вязнут, как мухи в патоке. Тошнота – фоновая, ноющая.
Вышла. Марк уже сидел на кухне, уставившись в ноутбук. На столе – чашка чая. Моя. Черная. Крепкая. Парок поднимался тонкой струйкой. Он не смотрел на меня. Его спина была напряжена, как тетива. Стена выросла еще выше.
Мне захотелось чаю. Не то чтобы сильно. Скорее, это был призрак желания. Ритуал. Попытка уцепиться за что-то нормальное из прошлой жизни. Подойти к плите. Включить чайник. Насыпать заварку в чашку. Простые действия. Но каждое требовало нечеловеческих усилий. Казалось горой.
Я подошла к столу. Взяла свою чашку с холодным чаем, чтобы вылить в раковину и налить свежего. Рука дрожала. Слабость. Туман в голове. Чайник зашипел на плите, готовый выключиться.
И тут – ноготь. Безымянный левой руки. Длинный, ухоженный когда-то. Я всегда их отращивала. Гордость. Последний бастион женственности. Он зацепился за ручку чашки. Резкий щелчок. Больно. Я взглянула.
Ноготь сломался. Почти под корень. Неровно, некрасиво. Клочок когда-то безупречного маникюра торчал под углом, обнажая розовое ногтевое ложе. Крошечная трагедия. Пустяк.
Но что-то щелкнуло. Не в ногте. В голове.
Тихий, звенящий звук. Как лопнувшая струна. Или треснувшее стекло. Всё.
Туман в голове мгновенно рассеялся. Не прояснилось – сгорело. Заменилось белым, ослепляющим, оглушающим гневом. Чистым. Первобытным. Животным. Он нахлынул волной, смывая все – слабость, тошноту, туман, вину. Заполнил каждую клетку, каждую вену раскаленной лавой.
Чашка. Она была в моей руке. Холодная, фарфоровая. Маркина любимая, с глупым смешным котиком. Я даже не подумала. Просто сжала пальцы. Со всей силы. Со всей ярости, что вырвалась на свободу.
ХРУСЬ.
Фарфор разлетелся на осколки. Громко. Резко. Как выстрел в тишине. Горячий чай брызнул на руку, на халат. Не больно. Неважно.
Марк вскочил как ужаленный. Ноутбук едва не слетел со стола. Его глаза – огромные, испуганные.
– Аля?! Что ты…
Я не слышала. Ярость ревела в ушах, как ураган. Она требовала выхода. Больше. Громче. Уничтожить. Стол. Плиту. Эту квартиру. Весь этот мир!
– ЧАЯ?! – мой крик сорвался не с горла, а из самой глубины кипящего чрева. Хриплый, дикий, нечеловеческий. – ТЫ ДАЕШЬ МНЕ ЧАЯ?! КОГДА У МЕНЯ… КОГДА ВСЁ… АААААА!
Я не знала, что кричу. Слова рвались наружу рваными клочьями, перемешанные с матом, слюной. Я схватила со стола первую попавшуюся вещь – банку с сахаром. Швырнула ее в стену. Пластик треснул, белые кристаллы рассыпались по полу, как снег на помойке.
– ВСЁ СЛОМАЛОСЬ! ВСЁ! БОЛЕЗНЬ! ПУСТОТА! РОДИТЕЛИ! И ЭТОТ… ЭТОТ НОГОТЬ! – я трясла перед его лицом рукой со сломанным ногтем. – ВИДИШЬ?! ВИДИШЬ, КАК ОНО ВСЁ?! КАК ОНО?! А ТЫ – ЧАЙ! ДЕРЖИСЬ! НА, ВОЗЬМИ СВОЙ ЧАЙ!
Я рванулась к плите, к шипящему чайнику. Хотела швырнуть и его. Стоп. Кипяток. Марк. Мелькнула доля секунды – но ярость была сильнее. Я просто выдернула вилку, швырнула ее на пол. Чайник захлебнулся, замолчал.
Марк стоял, прижавшись спиной к холодильнику. Бледный. Глаза – как у загнанного зверя. В них был ужас. Настоящий, первобытный ужас. Перед мной. Перед этой бешеной, кричащей фурией, в которую превратилась его жена. Он не пытался приблизиться. Не пытался успокоить. Он просто стоял. И смотрел. И этот взгляд… в нем не было осуждения. Было что-то худшее: отчуждение. Как будто он смотрел на чужого. На монстра.
Этот взгляд – как ушат ледяной воды. Ярость схлынула так же внезапно, как накатила. Оставив после себя… пустоту. Холодную. Липкую. И всепоглощающий, жгучий стыд. Стыд до тошноты. До желания провалиться сквозь землю.
Я огляделась. Осколки чашки. Рассыпанный сахар. Выдернутый чайник. Марк у холодильника. Его испуганные глаза. И я. Дышащая, как загнанная лошадь, с трясущимися руками, со сломанным ногтем, в халате, забрызганном чаем. Жалкая. Омерзительная. Неуправляемая.
Тошнота подкатила с новой силой. Не от терапии. От себя. От того, что я натворила. От этого взгляда Марка.
– Прости… – прошептала я. Голос был чужим, сдавленным. Слезы, наконец, выступили. Горячие, постыдные. – Я… не хотела…
Он не ответил. Не двинулся. Просто стоял и смотрел. Его молчание было громче любого крика.
Я повернулась и поплелась обратно в комнату. Ноги еле двигались. Стыд и пустота давили тяжелее чугунных гирь. Каждый шаг – пытка. Я дошла до дивана, рухнула на него лицом в подушку. Зарылась глубже.
Из кухни донесся звук. Тихий. Осторожный. Марк начал подметать осколки. Щетка скребла по полу. Раз. Два. Раз. Два. Монотонно. Бесконечно.
Я лежала, придавленная стыдом, и шептала в подушку, в такт скрежету щетки:
«Во что я превратилась… Во что я превратилась…»
Это не было шантажом. Это был холодный, горький, единственно возможный вывод. Я – монстр. Ярость – еще один побочный эффект. Эффект №1. И он страшнее тошноты. Страшнее выпадения волос. Потому что он убивает не меня. Он убивает последнее, что у меня было. Его любовь. Его веру. Его.
Глава шестая
Стыд горел под кожей, как кислота. Он заполнил все, вытеснив даже тошноту. Я лежала на диване, уткнувшись лицом в подушку, и слушала, как Марк убирает последствия моего срыва. Звук щетки по полу, скрежет осколков в совке – каждый шум был ударом по совести. Монстр. Неуправляемая. Тварь. Слова крутились в голове, сливаясь в одну катящуюся глыбу самоуничтожения. «Во что я превратилась» – уже не шепот, а мантра. Единственное, что оставалось.
Он затих на кухне. Не пришел. Не спросил, не попытался утешить. Его молчание было громче крика. Стену между нами теперь можно было пощупать. Бетонная, в рост, с колючей проволокой сверху.
Тошнота вернулась. Фоновая, навязчивая. Металл во рту. Побочка терапии, не отпускающая ни на секунду. Я ворочалась, пытаясь найти положение, где меньше давит под ребра, где меньше колотится сердце от остатков адреналина и стыда. Повернулась на спину. Потолок плыл в серых разводах.
И тут – зуд. На голове. Под париком. Несильный сначала. Покалывание, как от мурашек. Потом сильнее. Настойчивее. Как будто сотни мелких насекомых зашевелились под синтетикой. Я потерла ладонью, сквозь ткань парика. Не помогло. Зуд усиливался, становился невыносимым, гнал с дивана.
С трудом поднялась. Голова закружилась. Доплелась до ванной. Включила свет. Резкий, безжалостный. Зажмурилась. Потом медленно открыла.
Зеркало. Оно всегда ждало. Мой личный обвинитель.
Я смотрела на отражение. На женщину в помятом халате, с неестественно гладким, чуть перекошенным париком, с лицом цвета грязного снега. Глаза – огромные, запавшие, с лиловыми тенями под ними. Глаза больной. Рот – тонкая, бескровная щель. И этот парик… он сидел криво после вчерашнего, жал, натирал. И чесался. Ужасно чесался.
Руки сами потянулись к заколкам. Пальцы дрожали, плохо слушались. Сняла одну. Другую. Парик съехал назад, открывая лоб. Я сняла его совсем.
И замерла.
Волосы. То, что от них осталось. Редкие, жидкие прядки, торчащие клочьями на розовой коже черепа. Как последние травинки на выжженном поле. Я знала, что они выпадают. Видела их на подушке, в сливе душа, на воротнике халата. Но видеть это… Свою голову, такую… обнаженную. Чужую. Больную.
Зуд не прошел. Он горел под кожей. Я подняла руку, провела ладонью по голове. Кожа – нежная, странно гладкая, горячая. И волосы… они остались у меня в ладони. Целый жалкий пучок. Без усилия. Просто провела рукой.
Что-то внутри оборвалось. Окончательно.
Я не плакала. Не кричала. Просто смотрела в зеркало. На это отражение. На лысую, серую, с ввалившимися глазами. На руку, сжимающую клок собственных волос. На улику преступления против самой себя. Против прежней жизни.
Кто это?
Вопрос возник сам собой. Трезво. Без истерики. Просто констатация факта. Это не Алина. Алина была… другая. У нее были длинные, темные волосы, которые она ненавидела за непослушность, но все равно любила мыть, сушить, иногда заплетать. У нее был огонь в глазах. Сарказм. Злость. Страсть. Даже когда было плохо – она чувствовала. Она была… живая.
А эта? Эта женщина в зеркале? Она ничего не чувствовала. Только боль. Только тошноту. Только стыд и пустоту. Она лысая. Больная. Она орет на мужа из-за чашки. Она довела родителей. Она – обуза.
Кто эта женщина?
Я приблизила лицо к зеркалу. Вдохнула пар, осевший на холодном стекле. Глаза отражения смотрели на меня с немым вопросом. Бездонные. Пустые. В них не было ни капли прежней меня. Только отчаяние. И… странное любопытство? Любопытство к тому, что будет дальше.
Я поднесла руку с волосами к лицу. Потерла их о щеку. Шершавые. Мертвые. Пахли… ничем. Как пыль. Я бросила их в раковину. Белые кафельные стенки, черное отверстие стока. Жалкие темные ниточки на белом. Прощание.
Потом я посмотрела снова на свое лицо. На эту маску чужого страдания. И медленно, очень медленно, провела пальцем по щеке. Холодной. По губам – сухим, потрескавшимся. По впадине под глазом. Кожа была тонкой, как бумага. Чужая. Не моя.
Это не я.
Мысль была кристально ясной. Не отрицание. Констатация. Я была где-то там, внутри. Запертая. Подавленная этой болью, этой болезнью. Или меня уже не было? Осталась только оболочка? Пустая, дырявая, медленно угасающая под грузом терапии и тоски.
Зуд на голове прошел. Осталось только ощущение… обнаженности. Уязвимости до мурашек. Я наклонилась, подняла парик с края раковины. Синтетика была холодной, неприятной на ощупь. Маска. Фальшивка. Но без нее было еще страшнее. Еще непригляднее. Еще… нечеловечнее.
Я надела его обратно. Поправила перед зеркалом. Закрепила заколками. Теперь снова – иллюзия. Иллюзия женщины. Иллюзия нормальности. Но отражение не обманешь. Глаза под нарисованными бровями все так же смотрели пусто. Все так же спрашивали: Кто эта женщина?
Я выключила свет. В темноте стало легче. Отражения не было видно. Была только тьма. И я. Или то, что от меня осталось. Сидящее на краю ванны, дрожащее, сжимающее колени руками, с синтетическими волосами на голове и вопросом, на который не было ответа.
Из кухни доносился тихий стук клавиатуры. Марк работал. Или делал вид. Он был там. За стеной. В другом мире. Где были люди. А я была здесь. С этим вопросом. В темноте.
Глава седьмая
Отражение в зеркале не исчезло. Оно просто слилось с тенью, когда я вышла из ванной. Теперь оно было внутри, под синтетикой парика, под тонким слоем моей кожи. Пустое, тяжелое, чужое. Я снова упала на диван, укрывшись пледом. Звонок родителей, мой срыв, осколки чашки, лысая голова в зеркале – все это слилось в один сплошной шрам на сознании. Апатия. Тяжелая, как свинцовая плита. Двигаться не хотелось. Думать – тоже. Только лежать и чувствовать, как тошнота ползет по пищеводу, а металлический привкус въедается в язык.
Марк осторожно просунул голову в дверь.
– Чай? – спросил он шепотом.
Я не ответила. Не то чтобы назло. Просто не было сил даже на кивок. Он исчез. Его шаги по коридору – тихие, крадущиеся. Боялся спровоцировать новую вспышку.
Тишину разорвал виброзвонок телефона. Резкий, назойливый. Он лежал где-то под подушкой. Я замерла. Кто? Мать? Снова? Доктор Соколова? Чтобы сообщить, что анализы еще хуже? Страх сковал. Не хотелось никого. Ни звуков. Ни вопросов. Ни взглядов.
Но телефон не умолкал. Настойчиво. Уперто. С трудом протянула руку. Нащупала холодный пластик. Вытащила. Экран слепил в полутьме.
Лена.
Имя мелькнуло, как удар током. Лена. Подруга. Ну, та, что считалась подругой до… всего этого. Лет пять назад мы были не разлей вода. Потом я – развод, Марк, болезнь, ремиссия, снова болезнь… Контакты с Леной стали редеть. Сначала ее «ой, как жалко, держись!», потом неловкие отговорки, что «очень занята», потом – тишина. Месяца три уже. А теперь – звонок.
Почему? Что случилось? Сжала аппарат в потной ладони. Вибрация отдавалась в кости. Ответить? Не ответить? А вдруг… вдруг правда что-то? Нелепая искра надежды – может, услышать человеческий голос? Не Марка, замученного. Не врачей, равнодушных. Не родителей, ядовитых. Просто… человека из прошлой жизни.
Сглотнула ком в горле. Сдвинула палец по скользкому экрану.
– Алло? – мой голос прозвучал хрипло, чужим.
– Алинка! Привет! – голос Лены – громкий, жизнерадостный. Слишком громкий. Слишком жизнерадостный. Фальшиво. – Ой, ну наконец-то! Я тебе сто раз звонила! Ты где пропала?
– Я… дома, – пробормотала я. Голос все еще хрипел. Тупая боль начала пульсировать в висках. – Не очень… здорова.
– Ой, бедняжка! – в голосе Лены – карикатурное сочувствие. – Опять твоя… эта… терапия? Ну, ничего, прорвешься! Главное – настрой!
Настрой. Ага. Как будто я забыла его дома, как ключи.
– Да… – выдавила я. Силы разговаривать не было. Каждое слово – усилие.
– Слушай, я тебя так давно не видела! – Лена неслась дальше, не дожидаясь ответа. – Надо встретиться! Развеяться! Я как раз знаю отличный спа, новые процедуры… Омолаживающие! Ты только глянь, что они с моим лицом сделали!
Она, похоже, забыла, что у меня не просто плохое настроение. Спа? Омоложение? Блять, серьезно?
– Лен… – попыталась я вставить. – Мне сейчас не до…
– Ой, да ладно тебе! – она перебила весело. – Знаю я твое "не до"! Сидишь, наверное, дома, в депрессухе копаешься?
Слово. Оно прозвучало. Как щелчок выключателя во мне.
– Депрессухе? – повторила я тупо.
– Ну да! – Лена фыркнула. Легко. Небрежно. Как будто говорила о насморке. – Сейчас у всех депрессия, Алин! Это же модно! Сплошные психологи, таблетки… Ну, знаешь, как в социальных сетях – все грустные, все с горящими взглядами в пустоту! – Она засмеялась. Своим девичьим, беззаботным смехом. – Фигня это все! Надо просто взять себя в руки! Найти хобби! Завести собаку! Или котика! Они же антистресс!
Взять себя в руки.
Хобби. Котик.
Каждое слово – как нож. Тупой, но бесконечно больной нож. Вонзался в ту самую черную дыру внутри. И разрывал ее края.
Тошнота подкатила с новой силой. Металл во рту стал едким. В ушах зазвенело. Я сжала телефон так, что пальцы побелели. Гнев. Глухой, раскаленный.
– Лена… – я слышала, как мой голос стал ниже, опаснее. – У меня не "депрессуха". У меня…
– Знаю, знаю! – она снова перебила, не дав договорить. Не желая слышать. – Твоя терапия, твои болячки! Но, Алин, нельзя же так зацикливаться! Посмотри на меня! У меня же тоже депрессия была! После расставания с Сашкой! Целый месяц ревела, шоколад жрала! Но я взяла себя в руки! Записалась на йогу, в бассейн! Теперь – огурцом! Все в голове, поверь! Просто перестань думать о плохом!
Целый месяц. После расставания. Шоколад. Йога. Бассейн. Огурец. Просто перестань. Как просто!
Моя черная дыра взорвалась. Не пламенем. Льдом. Абсолютным, убийственным холодом ярости. Такая ярость, что даже тошнота отступила. Заменилась ледяной пустотой ненависти.
Я сидела, сжав телефон, и слушала, как она тараторит про йогу, про позитивное мышление, про то, как все легко и просто, если «не зацикливаться». На мою боль. На мой страх. На мою потерю всего. На мою ЛЫСУЮ ГОЛОВУ И ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ.
Она не слышала. Не хотела слышать. Ей нужна была картинка. Декорация. А я была слишком реальной. Слишком грязной. Слишком… чужой.
– …так что приезжай! – Лена выдохнула, закончив свой монолог о спасении через хобби. – Хоть в пятницу? Развеемся! Забудем про твою депрессуху!
Молчание. Тяжелое. Густое. Я слышала ее дыхание в трубке. Ждала ответа. Веселого. Благодарного.
– Лена, – сказала я. Голос был тихим. Плоским. Как лезвие. – Иди на хуй.
Я не кричала. Не рыдала. Просто констатировала. Твердо. Четко.
На той стороне – тишина. Шокированная. Потом – вздох. Обиженный.
– Алин! Ну что ты… Я же из лучших…
Я положила трубку. Не резко. Просто нажала красную кнопку. Отрезала ее фальшивый голос. Ее банальности. Ее «депрессуху».
Тишина. Снова. Но теперь – другая. Насыщенная гудящей, белой яростью. Холодной. Окончательной. Она заполнила комнату, вытеснив воздух.
Сейчас у всех депрессия.
Модно. Хобби. Котик.
Взять себя в руки.
Не зацикливаться.
Иди на хуй.
Слова крутились в голове. Каждое – плевок. Каждое – напоминание о том, как глубоко я упала. Как далеко от этого «нормального» мира, где проблемы решаются йогой и котиками. Где боль – это повод для модного поста. Где страдание – это просто «не зацикливаться».
Телефон был еще в моей руке. Теплый. Склизкий от пота. Я смотрела на него. На этот кусок пластика и стекла, соединяющий меня с миром. С миром, который не понимал. Не хотел понимать. Который предлагал котика в ответ на агонию.
Ярость сконцентрировалась. Стала острой. Точкой. В центре ладони. В этом телефоне.
Иди на хуй.
Все.
Иди на хуй.
Я подняла руку. Медленно. Пальцы сжимали аппарат мертвой хваткой. Потом – резко. Со всей оставшейся силы. Со всей ненависти к этому миру, к его банальностям, к его равнодушию, к его «депрессухе».
БАМ!
Телефон врезался в стену напротив дивана. Пластик треснул. Стекло экрана рассыпалось веером искр и осколков. Звук – громкий, хлесткий, как выстрел. Удовлетворяюще-громкий.
Осколки посыпались на пол. Телефон, развалившийся на части, отскочил и замер у плинтуса. Молчаливый. Мертвый.
Я сидела, тяжело дыша. Ладонь болела от удара. Но ярость… ярость схлынула. Немного. Оставив после себя ледяное спокойствие. И пустоту. Еще более глубокую. И понимание.
Мир – там. За стенами. Он не придет. Не поймет. Не спасет. Он предложит котика. Или йогу. И скажет «у всех так».
А я – здесь. С болью. С тошнотой. С осколками своего телефона на полу. И с разбитым мостом в ту самую «нормальную» жизнь.
Марк не прибежал на шум. Наверное, подумал, что я снова что-то разбила. Чашку. Или его последнюю надежду.
Я медленно легла обратно. Укрылась пледом. Повернулась лицом к стене. К той самой, где теперь красовалась вмятина и паутина трещин от телефона. Как новый арт-объект в нашем личном аду. Название: «Иди на хуй. Все».
Тошнота вернулась. Металл во рту. Но теперь было тихо. Никто не позвонит. Никто не скажет «у всех депрессия». Пока.
Глава восьмая
Тишина после взрыва телефона была гулкой и окончательной. Марк не пришел. Ни звука из его комнаты. Он либо привык, либо сдался. Или боялся. Я лежала на диване, уставившись в стену с новой вмятиной и паутиной трещин. Осколки стекла поблескивали на полу в слабом свете уличного фонаря. Даже ирония была какая-то плоская, выдохшаяся.
Ярость схлынула, оставив после себя не пустоту, а что-то новое. Тревогу. Мелкую, назойливую. Она копошилась под ребрами, смешиваясь с вечной тошнотой и металлом на языке. Телефон мертв. Связь с внешним миром оборвана. Это должно было приносить облегчение, но приносило только чувство еще большей изоляции. Как будто я сама отключила аварийный маячок в открытом море. Теперь – только я, боль и эта проклятая квартира.
Вечер тянулся мучительно долго. Марк принес тарелку с чем-то безвкусным – рис, куриная грудка. Я сделала вид, что ем. Проглотила пару кусочков. Еда встала комом где-то под ложечкой. Он забрал тарелку, не глядя на меня. Его молчание было тяжелее крика. Стена росла. Становилась крепостной. Неприступной.