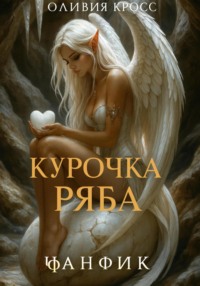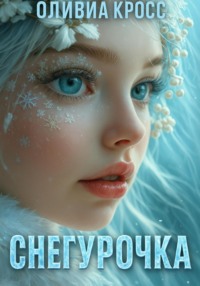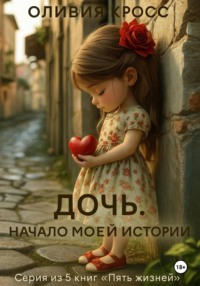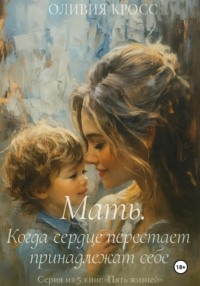Полная версия
Диагноз, который я себе не ставила

Оливия Кросс
Диагноз, который я себе не ставила
Глава 1. Привычка не смотреть в зеркало
Я всегда говорила себе, что просто не люблю зеркала. Это звучало почти мило, как странная черта характера, вроде нелюбви к острым блюдам или привычки спать с открытым окном. Но на самом деле я не просто их не любила – я их избегала, как избегают нежелательных встреч. Я могла случайно поймать своё отражение в витрине или экране телефона и быстро отвернуться, словно это чужой человек, с которым я не хочу иметь ничего общего. Я пряталась от собственного взгляда, потому что знала: в нём слишком много вопросов, на которые у меня нет честных ответов.
Когда я была подростком, мама любила говорить: «Посмотри на себя!» – и это никогда не было приглашением к восхищению. Это было обвинение. Иногда я слышала его, когда приходила домой позже положенного времени, иногда – когда на моём лице были следы слёз. И я смотрела в зеркало, но видела не себя, а набор недостатков, которые нужно срочно исправить. Слишком бледная, слишком худая, волосы как солома, глаза красные. Тогда я научилась смотреть на отражение поверхностно, будто проверяю, застёгнута ли молния или нет пятен на блузке, но не глубже. Не позволяла себе задержаться, чтобы не заметить лишнего.
В студенчестве зеркала стали фоном. В общежитии они висели в коридоре, и в них отражались сотни чужих лиц. Моё – одно из многих. Я научилась быстро поправлять макияж или волосы, не задерживая взгляд на глазах. Потому что глаза выдавали усталость, бессонные ночи, те утренние похмелья, о которых я старалась молчать. Я работала на свою картинку, но картинка не имела ничего общего с внутренним состоянием.
Потом я стала психологом, и зеркала исчезли почти из моей жизни. В кабинете, где я вела приёмы, их не было, и я будто вздохнула с облегчением. Я слушала других, отражала их чувства, задавала вопросы – но самой себе я вопросов не задавала. Моя работа была своего рода побегом от себя. Я могла часами всматриваться в лица клиентов, в их мимику, движения, и при этом не иметь ни малейшего желания встретиться с собственным взглядом.
Зеркало – это ведь не просто стекло с отражающим слоем. Оно честнее любых слов. Оно не подбирает удобных формулировок, не сглаживает углы. Оно показывает, где ты врёшь себе. И я чувствовала, что если однажды я задержусь в своём отражении, мне придётся признать, что я давно не управляю собственной жизнью. Что я выгляжу старше своих лет не только из-за морщин, но и из-за усталости, которую невозможно скрыть косметикой. Что в моих глазах есть та самая пустота, которую я так часто вижу в других и знаю, чем она грозит.
Я говорила себе: «Это просто зеркало, это неважно». Но в глубине знала: моё нежелание смотреть – это симптом. Симптом того, что я потеряла контакт с собой. Симптом того, что моё «я» стало таким неудобным, что я от него отворачиваюсь. И пока я отворачиваюсь, оно продолжает разрушаться, тихо, но верно.
В редкие моменты, когда я всё же заставляла себя всмотреться в глаза в отражении, я ловила странное ощущение – будто смотрю на клиента, которому срочно нужна помощь. Чужая женщина, знакомая и незнакомая одновременно, усталая, с осунувшимися щеками и сжатым ртом. И я понимала, что не взяла бы её в терапию, потому что знала: у меня не хватит сил. Не хватит, потому что эта женщина – я.
Я научилась жить без отражений. Я подбирала одежду на ощупь, красилась на автомате, проверяя только общий силуэт. Я не хотела знать, как на самом деле выгляжу, и не хотела, чтобы кто-то другой это видел. Это была форма самозащиты: если я не вижу себя, значит, всё не так уж плохо. Значит, я могу продолжать.
Только однажды, вернувшись домой поздно ночью, я случайно включила свет в ванной и оказалась перед зеркалом лицом к лицу. Я была без макияжа, с растрёпанными волосами, глаза красные, в них – растерянность и усталость. И я вдруг поняла, что смотрю в эти глаза так же, как когда-то смотрела мама, когда говорила: «Посмотри на себя». Только теперь я сама себе это сказала. И это было не обвинение. Это был тихий, болезненный вопрос: «Сколько ещё ты сможешь так жить?»
В тот момент я не дала себе ответа. Я просто выключила свет и ушла. Но именно этот взгляд в зеркало стал первой трещиной в стене, которую я строила годами, прячась от самой себя.
Глава 2. Симптомы, которые я игнорировала
Я всегда умела красиво объяснять своё состояние – так, чтобы оно звучало убедительно и для других, и для меня самой. Если я засыпала на ходу, я говорила, что просто много работаю, что сезон сложный, клиенты тяжёлые, слишком много эмоциональных вложений. Если я просыпалась среди ночи и лежала с широко раскрытыми глазами, чувствуя, как сердце бьётся в горле, я объясняла это переутомлением или «неудачным кофе вечером». Если меня бросало в дрожь без причины, я списывала на погоду или гормоны. Любая тревога, любой сбой в теле и голове получал рациональное объяснение – и этим объяснением я глушила то, что должно было меня встревожить.
Первые симптомы появились задолго до того, как я вообще поняла, что нахожусь на опасной территории. Это была постоянная усталость – не та, что проходит после выходного, а вязкая, как болотная вода, тянущая тебя вниз даже тогда, когда, казалось бы, всё в порядке. Я просыпалась уже уставшей, садилась на работу и считала часы до вечера, а вечером считала минуты до того, как можно будет налить первый бокал. И всё это я называла «нормой».
Были и другие сигналы. Частые головные боли, на которые я отвечала таблеткой и продолжением работы. Неспособность сосредоточиться на тексте или разговоре больше десяти минут. Странная раздражительность, когда меня бесили даже звуки – шаги в коридоре, звонок телефона, шум за окном. Я говорила себе, что просто стала чувствительнее с возрастом, что это от перегрузки, от постоянной вовлечённости в чужие жизни.
Но самым тревожным был момент, когда я стала забывать слова. Не сложные термины, не названия книг или фильмов – обычные слова, простые, бытовые. Я могла остановиться посреди фразы и чувствовать, как в голове пусто, будто кто-то выключил свет. Клиенты иногда замечали паузы, а я отшучивалась, что у меня «мозг перегрет». Но внутри я понимала: это ненормально. И всё равно продолжала игнорировать.
Тело тоже пыталось говорить со мной. Сердце начинало биться так, что я слышала его в ушах, дыхание становилось поверхностным, руки холодели. Иногда меня бросало в пот, и я думала, что это просто жарко или я переборщила с кофе. Иногда вдруг хотелось заплакать без всякой причины, но я тут же находила повод, чтобы этого не делать – срочную работу, звонок, который нужно принять, сообщение, на которое надо ответить. Я глушила сигналы, как будто могла их отменить, просто не обращая внимания.
Я ведь знала, что все эти проявления имеют смысл. Как психолог, я прекрасно понимала, что психика не кричит просто так, что тело – это первый и самый честный информатор. Но с собой я была глуха и слепа. С другими я могла разглядеть малейший намёк на тревогу, усталость или депрессию, но в своей жизни предпочитала оставаться слепой. Потому что признать – значит начать действовать. А действовать – значит менять то, к чему я привыкла.
Иногда мне казалось, что я живу в доме, в котором давно пахнет гарью, но я хожу по комнатам, открываю окна, зажигаю свечи, лишь бы не искать источник дыма. Потому что я боялась, что если найду, то пойму: уже всё в огне.
Был один вечер, когда я поняла, что что-то совсем не так. Я пришла домой, налила себе бокал вина и села за ноутбук, чтобы закончить отчёт. Вдруг руки начали дрожать так, что пальцы не попадали по клавишам. Я остановилась, смотрела на эти руки и не понимала, почему они меня не слушаются. А потом в груди стало тесно, дыхание сбилось, и мне показалось, что я сейчас умру. Это длилось минуту, может две, но для меня это был час. Я тогда сказала себе, что просто переутомилась, что завтра пройдёт. И на следующий день действительно стало легче – но не потому, что проблема ушла, а потому что я снова её спрятала.
Симптомы никуда не исчезали. Они то стихали, то возвращались, но я научилась обходиться с ними, как с непрошеными соседями: просто делала вид, что их нет. Я знала, что однажды они соберутся вместе, чтобы заставить меня обратить внимание. И всё же каждый раз, когда они стучали в дверь, я делала вид, что не слышу.
И сейчас, когда я думаю об этом, я понимаю: я боялась не диагноза. Я боялась, что он окажется правдой, которую я и так знала.
Глава 3. Профессиональная слепота
Когда ты психолог, тебе сложно признать, что у тебя те же проблемы, что и у твоих клиентов. Это похоже на иллюзию иммунитета: если я знаю, как устроена боль, значит, она не может сломать меня так же, как их. Я была уверена, что обладаю каким-то особым внутренним фильтром, который пропускает чужие переживания, но задерживает мои собственные, не давая им разрастись. Я строила этот фильтр годами – на лекциях, в тренингах, в практике – и верила, что он работает.
В профессии есть тихая гордыня: мы часто думаем, что наш опыт и знания ставят нас над проблемой, делают нас наблюдателями, а не участниками. Но правда в том, что мы такие же участники, только часто играем роль зрителей в собственной жизни. Я слушала людей, которые приходили ко мне с тревогой, с депрессией, с зависимостями, и видела их насквозь. Я могла назвать их проблему, разложить её на составляющие, предложить методы работы, шаг за шагом выстраивать маршрут выхода. Но когда дело касалось меня самой, я словно переставала быть специалистом.
Я узнавала себя в чужих историях – слишком часто, чтобы это было случайностью. Когда клиент рассказывал о бессонных ночах и постоянной усталости, я невольно думала: «Это как у меня». Когда кто-то говорил о чувстве пустоты, которое заполняется алкоголем или бесконечной работой, я внутри вздрагивала, но тут же отгоняла мысль. Потому что допустить её означало признать, что мы с ним стоим по одну сторону баррикады. А это рушило мой образ – и в его глазах, и в моих собственных.
Профессиональная слепота – это когда ты видишь всех, кроме себя. Это как стоять перед зеркалом, но видеть только отражение комнаты за спиной, а своё лицо игнорировать. Я объясняла себе, что так проще работать, что нельзя смешивать личное и профессиональное, что я обязана сохранять дистанцию. Но на самом деле я боялась этой встречи – встречи со своим собственным диагнозом, который мог оказаться не менее тяжёлым, чем у моих клиентов.
Было и другое: в нашей профессии признание собственной уязвимости часто воспринимается как слабость. Мы должны быть опорой, стабильной точкой, к которой люди приходят, когда весь мир вокруг рушится. Если я скажу, что сама нуждаюсь в помощи, разве они смогут мне доверять? Разве смогут верить, что я знаю, как их вести? Я задавала себе эти вопросы и каждый раз приходила к выводу, что молчание безопаснее. Для них. Для меня. Для иллюзии, которую я берегла.
Но эта слепота имела цену. Я всё чаще выходила с приёма, чувствуя, что не могу стряхнуть чужое состояние. Оно оседало во мне, смешивалось с моим собственным и становилось неотличимым. Я ловила себя на том, что думаю о клиентах ночью, во сне, и просыпаюсь с их словами в голове. Это не было эмпатией. Это было слиянием, потерей границы между «их» и «моим». А когда граница размыта, очень легко не заметить, что ты уже тонешь в своей же воде, думая, что спасаешь чужую лодку.
Профессиональная слепота – это не отсутствие знаний. Это их избыток, которым ты прикрываешься, чтобы не видеть очевидного. Я могла написать целый план психотерапии для женщины с моими же симптомами, но сама продолжала сидеть в темноте, убеждая себя, что мне этого не нужно. Что я контролирую ситуацию. Что всё под рукой.
Я помню одну сессию особенно ясно. Ко мне пришла клиентка, которая говорила о своём страхе, что её жизнь идёт под откос. Она описывала тревогу, которая не отпускала её ни днём, ни ночью, и я слушала, кивала, задавала вопросы. И в какой-то момент она сказала: «Я боюсь, что однажды проснусь и пойму, что уже поздно». Эти слова ударили в меня так, что я почти потеряла нить разговора. Потому что это был мой страх. Моё собственное «однажды». Но я снова сделала вид, что это не про меня.
Я уходила с работы всё чаще в тишине – без музыки, без звонков, без желания о чём-то говорить. Я чувствовала, что внутри копится что-то тяжёлое, но говорила себе: «Ты же психолог. Ты знаешь, что делать». Только я не делала ничего. Я просто шла дальше, надеясь, что если не смотреть в эту сторону, оно рассосётся.
Но профессиональная слепота – как болезнь глаз: чем дольше её не лечишь, тем хуже видишь. Я перестала различать, где чужая боль, а где моя. И однажды проснулась с ощущением, что все истории, которые я слушаю, и есть моя история, только рассказанная разными голосами.
Глава 4. Самодиагностика через других
Иногда мне кажется, что я начала лечить других только для того, чтобы однажды услышать свою историю чужими устами. Я никогда не садилась с намерением провести параллели, но они появлялись сами – так отчётливо, что порой становилось страшно. Я слушала, как человек напротив говорит о своих привычках, страхах, бессилии, и знала каждую деталь на вкус, потому что жила в ней сама. Я могла дословно предсказать, что он скажет дальше, и не потому, что у меня богатый опыт работы с клиентами, а потому что эти слова уже много раз звучали в моей голове.
Мне не нужно было смотреть на себя в зеркало, потому что напротив сидели десятки зеркал в виде моих клиентов. Разные лица, разные судьбы, разные декорации – но одна и та же суть. Женщина с безупречным маникюром, говорящая о том, как «немного вина по вечерам помогает расслабиться»; парень, который смеялся, рассказывая, что без кофе не может проснуться, но признавался, что пьёт его литрами, потому что иначе не выдерживает внутреннего напряжения; мать, которая вставала в пять утра, чтобы сделать всё идеально, и засыпала с чувством, что сделала недостаточно. Каждый из них приносил на сессию кусок моей собственной правды, которую я так старательно прятала от себя.
Это было похоже на сбор пазла: у одного – мой страх не успеть, у другого – моя усталость, у третьего – мои утренние дрожащие руки. Я раскладывала эти куски перед ними, помогала им увидеть картину целиком, а свою картину продолжала держать в темноте. Потому что, если бы я сложила её, мне пришлось бы что-то с этим делать.
Особенно тяжело было, когда мои клиенты начинали задавать вопросы, которые я сама избегала. «Почему я не могу остановиться, если понимаю, что это вредно?» – спрашивала женщина, описывая вечерние ритуалы с алкоголем. «Почему я всё время делаю вид, что всё нормально, хотя внутри пусто?» – говорил мужчина, который вёл бизнес, но чувствовал, что живёт на автомате. Я могла отвечать им честно, профессионально, глубоко. Но сама эти же вопросы обходила стороной. Я как будто жила в доме с множеством комнат и сама себе запрещала заходить в те, где темно.
Были моменты, когда совпадения становились пугающими. Один клиент рассказывал про утренние приступы паники: «Я открываю глаза и понимаю, что не хочу вставать. Не потому, что устал, а потому, что боюсь дня». Эти слова были как удар в солнечное сплетение – это ведь была моя фраза, только я никогда не произносила её вслух. Я тогда крепче сжала ручку, делая вид, что записываю, и кивнула, как будто впервые слышу такое.
Я начала замечать, что всё чаще мысленно отвечаю клиентам так, как отвечала бы себе, если бы решилась задать вопрос. Это был странный внутренний диалог, в котором я была и терапевтом, и пациентом. Только вот пациентка в этом диалоге всегда молчала, когда приходило время действовать.
Порой я ловила себя на том, что после особенно «зеркальной» сессии мне хотелось исчезнуть. Не домой – туда, где никто не знает, что я психолог, где я могу просто сидеть, смотреть в одну точку и не слышать собственных мыслей. Это было похоже на усталость от самой себя, только замаскированную под усталость от работы.
Один случай я помню особенно остро. Ко мне пришла молодая женщина, которая рассказала, что боится врачей, потому что как только ей поставят диагноз, это станет реальностью. Она говорила: «Если я не знаю, что со мной, значит, этого как бы нет». Я сидела и слушала, а внутри что-то тихо щёлкнуло – вот она, формула, по которой я жила уже много лет. Если не признать, значит, можно делать вид, что всё под контролем.
Самодиагностика через других – это как подглядывать за своей болезнью, но не признавать, что она твоя. Я думала, что, глядя на чужой путь, я научусь действовать. Но на деле я только училась лучше прятаться. Потому что видела, как больно бывает тем, кто решается назвать вещи своими именами.
И, возможно, именно поэтому я так долго отказывалась произносить своё. Потому что пока это звучало чужими голосами, я могла притворяться, что это не про меня. Но я знала – рано или поздно зеркало не выдержит и покажет только одно лицо. Моё.
Глава 5. Нормальность как маска
Я всегда умела выглядеть нормально. Это умение выучилось само, без тренировок, как будто встроилось в меня в детстве – так же естественно, как умение дышать. «Нормальность» была моим костюмом, в котором я выходила в мир, и он сидел на мне без единой складки. Улыбка в нужный момент, уверенный тон, ровная походка – всё это я носила так, что даже самые внимательные не замечали: ткань костюма натянута до предела, а под ним кожа в синяках и ссадинах.
Я знала, как держать лицо на родительских встречах, на приёмах у клиентов, даже на семейных праздниках, где хотелось спрятаться в ванной и сидеть там, пока все не разойдутся. Внешне я всегда была «в порядке»: работа идёт, ребёнок ухожен, разговор поддерживаю, могу рассмешить. Никто не видел, что я засыпаю по ночам не потому, что устала, а потому что больше не могу держать эту нормальность на плечах.
В нашей культуре нормальность – это что-то вроде валюты. За неё дают право на уважение, работу, доверие. И если ты однажды позволишь себе выглядеть ненормальной – заплаканной, растерянной, растянутой – всё это мгновенно обесценивается. Я знала это интуитивно. Я видела, как люди отстраняются от тех, кто вдруг оказывается в беде. Поэтому моя нормальность была не просто привычкой, а стратегией выживания.
Проблема в том, что этот костюм врос в меня настолько, что я перестала чувствовать, где заканчивается он и начинается моя кожа. Я уже не знала, что значит быть без него. Я могла позволить себе сорваться только в полной тишине, когда никто не видел. Иногда это было в ванной, иногда – в машине на пустой парковке. Я садилась, закрывала глаза и позволяла себе дышать так, как я дышу, когда никого нет. И даже тогда внутри звучал голос: «Соберись. Вдруг кто-то увидит».
В работе маска нормальности была моим главным инструментом. Клиенты чувствовали, что я уверена, спокойна, что меня ничто не может выбить из колеи. Это давало им ощущение безопасности. Я знала, что так должно быть. И всё же иногда ловила себя на том, что слушаю человека и думаю: «Если бы ты знал, как я сейчас похожа на тебя». Но я никогда не говорила этого. Я ведь была «нормальной».
Я понимала, что нормальность – это декорация. Она не убирает трещины в стенах, просто вешает поверх обои. Но с каждым днём становилось всё труднее держать эти обои ровными. Когда у тебя внутри накапливается слишком много боли, злости, усталости, декорации начинают провисать. Я ловила на себе взгляды людей, которые будто что-то замечали, но не решались спросить. И я благодарила их молча – за то, что не спрашивают.
Был один вечер, когда маска чуть не слетела. Мы с коллегами ужинали после конференции, и кто-то, смеясь, сказал: «Ну, у тебя-то всё идеально». И я вдруг почувствовала, как внутри что-то рвётся. Я хотела сказать: «Нет. Я разваливаюсь». Хотела, чтобы кто-то, хоть один человек, посмотрел на меня без ожидания нормальности. Но я только улыбнулась и подняла бокал.
Нормальность как маска страшна тем, что она обманывает не только других, но и тебя саму. Когда ты слишком долго играешь роль, ты начинаешь забывать, что это роль. Я искренне верила, что держу всё под контролем, потому что именно это я транслировала миру каждый день. И только в редкие ночи, когда засыпала, ощущала странную пустоту, в которой не было ни клиента, ни психолога, ни матери, ни женщины. Была только я – без маски, без костюма. И мне было страшно на себя смотреть.
Однажды я поняла, что моя нормальность мешает мне просить о помощи. Ведь чтобы попросить, нужно признать, что она тебе нужна. А это значит – снять костюм, выйти из привычной роли и показать трещины. Но я не умела. Я могла только подтянуть маску повыше, поправить швы на костюме и выйти в очередной день, делая вид, что всё в порядке.
Я всё ещё не знала, что именно со мной происходит. Но уже начинала понимать: нормальность – это не синоним здоровья. Это может быть его самой опасной противоположностью. Потому что пока ты выглядишь «как все», никто не спросит, как ты на самом деле. И ты сама перестанешь спрашивать об этом у себя.
Глава 6. Первое слово, которое я не смогла произнести
Я много лет работала со словами. Слушала их, разбирала на части, выстраивала в предложения, чтобы они становились мягче, чище, точнее. Я знала, как важно подбирать слова осторожно – иногда они ранят сильнее любого действия. Я могла помочь клиенту произнести то, что он боялся, – от простого «мне больно» до «я не люблю тебя больше». Но однажды я столкнулась со словом, которое не смогла сказать сама. Оно встало в горле, распухло, стало тяжёлым и колючим, и каждый раз, когда я пыталась вытолкнуть его наружу, у меня перехватывало дыхание.
Это слово впервые произнёс врач. Мы сидели в его кабинете, и он, листая мои анализы и записи, остановился, посмотрел на меня и назвал его. Сказал спокойно, почти без эмоций, как будто это всего лишь диагноз, просто сочетание букв и звуков, обозначающее определённое состояние. Но для меня это было не слово – это был приговор. Оно звучало так, будто под этим ярлыком теперь буду ходить я.
Я кивнула, сделала вид, что слушаю его объяснения, но в голове уже грохотало одно: «Нет. Нет. Это не про меня». Я словно стояла на границе двух миров – того, где я ещё могла отрицать, и того, где это слово станет частью меня. И я выбрала остаться в первом, хотя понимала, что это лишь временное убежище.
Я ушла из кабинета, закрыв дверь чуть сильнее, чем нужно, и на улице поймала себя на том, что даже мысленно не могу повторить услышанное. Как будто если я не назову его, оно перестанет быть реальностью. В тот день я работала с клиентами, вела сессии, отвечала на звонки, но всё это было как под водой. Где-то в глубине сидело это слово, тяжёлое, тёмное, и я чувствовала, как оно пульсирует.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.