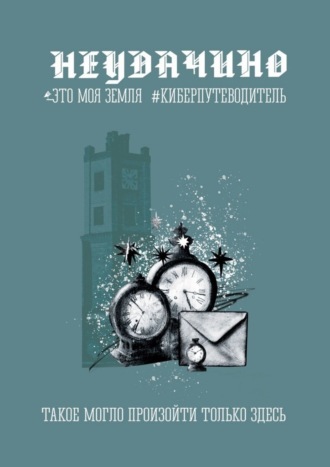
Полная версия
Неудачино. Это моя земля. Киберпутеводитель
Олег почувствовал, как краснеет. В его коллекции были снимки, сделанные с полей, но он никогда не задумывался, что это может кому-то мешать.
– Виктор, не начинай, – устало сказала Ирма. – Лучше расскажи про новый указатель.
Фермер нахмурился еще сильнее.
– Администрация решила поставить туристический указатель, который будет направлять людей к специальной площадке для фотографирования. Чтобы они не создавали пробки на дороге и не лезли на поля.
– Это же хорошо, разве нет? – спросил Олег.
– Хорошо, если бы они не собирались заменить наш исторический знак на какую-то модернизированную версию с подсветкой и прочей ерундой, – проворчал Виктор. – Как будто мы тематический парк, а не село с историей.
Ирма поставила перед ним чашку чая.
– Виктор боится, что новый знак привлечет еще больше туристов, – пояснила она. – А я боюсь, что он окончательно превратит Неудачино в посмешище. Никто даже не собирается упоминать на нем настоящую историю села.
Олег задумчиво вертел в руках чашку. То, что начиналось как обычная остановка для пополнения коллекции, превращалось в нечто более сложное.
– А что, если… – начал он, но его прервал звонкий голос.
– Бабушка! Я принесла хлеб!
В комнату вбежала девочка лет двенадцати с двумя светлыми косичками и веснушками на носу. Увидев Олега, она замерла.
– Это кто?
– Это Олег, фотограф, – представила его Ирма. – А это моя внучка Лиза.
Девочка с любопытством разглядывала гостя.
– А вы тоже приехали фотографировать наш знак? У меня в Сети целая коллекция селфи туристов. Некоторые такие смешные!
– Лиза, – укоризненно покачала головой Ирма.
– Ну что? – пожала плечами девочка. – Благодаря этому знаку у меня теперь друзья по всему миру. Я даже переписываюсь с девочкой из Австралии, которая проезжала через нашу деревню в прошлом году!
Олег невольно улыбнулся. Похоже, отношение к знаменитому знаку в семье было неоднозначным.
Следующие три дня Олег провел в Неудачино, забыв о своем первоначальном плане. Он снимал не только знак, но и людей, дома, поля – все, что составляло настоящую жизнь села. Ирма познакомила его с другими жителями, каждый из которых имел свое мнение о знаменитом дорожном указателе.
Старый Генрих, помнивший еще времена, когда в селе говорили преимущественно на немецком, считал туристов досадным недоразумением. Молодая учительница Наталья жаловалась, что дети стесняются названия своего села, когда выезжают на соревнования в район. А владелец единственного магазина Петр радовался каждому приезжему – они хоть что-то покупали, поддерживая его скромный бизнес.
Утром четвертого дня Олег сидел на скамейке возле дома-музея, просматривая отснятый материал, когда к нему подбежала запыхавшаяся Лиза.
– Олег! Там собрание в администрации! Про новый указатель! Бабушка велела тебя позвать!
Здание администрации – двухэтажный кирпичный дом с башенными часами – было переполнено. Казалось, собралось все село. Олег протиснулся внутрь и встал рядом с Ирмой, которая кивнула ему, не отрывая взгляда от мужчины в костюме, стоявшего перед собравшимися.
– Как я уже сказал, – говорил мужчина, судя по всему, представитель районной администрации, – проект нового туристического указателя уже утвержден. Он будет установлен в следующем месяце. Старый знак демонтируют.
Он развернул на столе большой лист бумаги с проектом. Олег вытянул шею, пытаясь разглядеть изображение. Новый указатель представлял собой стилизованную конструкцию с надписью «Добро пожаловать в Неудачино» и схематичным изображением фотоаппарата.
– Это что за уродство? – громко спросил Виктор, стоявший в первом ряду. – Где тут хоть слово о настоящей истории села?
– История будет отражена в информационных материалах, которые можно будет получить в администрации, – ответил чиновник.
– Которые никто не будет читать! – воскликнула Наталья. – Туристы приезжают на пять минут, делают селфи и уезжают!
– А мне нравится, – подал голос Петр. – Современно, привлекательно. Может, туристы будут задерживаться подольше.
В зале поднялся гул – одни поддерживали проект, другие возмущались. Олег смотрел на макет и чувствовал растущее разочарование. Безликий, стандартный дизайн, который мог бы стоять в любом туристическом месте. Ничего от настоящего Неудачино, которое он успел узнать за эти дни.
– А что, если сделать по-другому? – неожиданно для себя произнес он громко.
Гул стих, все повернулись к нему.
– Вы кто? – нахмурился чиновник.
– Олег Соколов, фотограф. Я работаю над выставкой о российских селах с необычными названиями.
– И что вы предлагаете? – скептически спросил чиновник.
Олег сам не знал, что собирается сказать, пока не начал говорить:
– Я предлагаю не заменять старый знак, а дополнить его. Создать рядом с ним информационный стенд с фотографиями настоящего Неудачино, с рассказом о его истории, о меннонитах, о том, что название на самом деле означает «новый дом». Сделать так, чтобы туристы, приезжающие посмеяться над названием, уезжали с пониманием и уважением.
В зале повисла тишина. Затем Ирма медленно начала аплодировать. К ней присоединились другие.
– Это все звучит прекрасно, – прервал аплодисменты чиновник, – но у нас уже утвержденный проект и бюджет. Мы не можем все менять из-за предложения случайного фотографа.
– А если я покажу, как это может выглядеть? – не отступал Олег. – Дайте мне неделю. Я сделаю выставку фотографий прямо здесь, в селе. Если она вам понравится, вы сможете использовать эти материалы для информационного стенда.
Чиновник выглядел озадаченным.
– Я не могу принимать такие решения единолично…
– Тогда пригласите тех, кто может, – вмешался Виктор. – Пусть приедут на выставку, увидят настоящее Неудачино, а не то, что они себе представляют.
По залу прокатился одобрительный гул.
– Хорошо, – неохотно согласился чиновник. – Одна неделя. Но я ничего не обещаю.
Когда собрание закончилось, Олег почувствовал, как на его плечи опустилась тяжесть ответственности. Что, если у него не получится? Что, если его фотографии не смогут передать то, что он увидел в этом месте?
Ирма, словно прочитав его мысли, положила руку ему на плечо.
– Ты уже видишь настоящее Неудачино, – сказала она тихо. – Теперь просто покажи его другим.
Неделя пролетела в лихорадочной работе. Олег снимал с рассвета до заката – старинные дома с немецкой архитектурой, поля пшеницы, колышущиеся на ветру, морщинистые лица старожилов и ясные глаза детей. Вечерами он отбирал лучшие кадры, обрабатывал их и готовил к печати.
Жители села помогали кто чем мог: Виктор возил его на своем тракторе по окрестностям, показывая лучшие виды; Наталья организовала школьников для подготовки помещения под выставку; Петр выделил часть своего склада для создания временной фотолаборатории. Даже старый Генрих, поначалу относившийся к затее скептически, поделился семейными фотографиями, сделанными еще в начале прошлого века.
Лиза стала его неофициальным ассистентом, таскаясь за ним с блокнотом и записывая истории, которые рассказывали люди во время съемок. Ее детский почерк с завитушками над буквами придавал этим историям особое очарование.
– Знаешь, – сказала она однажды, когда они возвращались с очередной съемки, – я раньше стеснялась говорить, откуда я. Дети в лагере всегда смеялись над названием. А теперь мне кажется, что оно классное. Необычное.
Олег улыбнулся, но ничего не ответил. Он и сам начал иначе воспринимать это место.
Выставку решили провести в здании школы – единственном помещении, достаточно просторном для такого мероприятия. Накануне открытия Олег допоздна развешивал фотографии, компонуя их в единое повествование. Центральное место занимал большой снимок дорожного знака «Неудачино», но не привычный туристический ракурс, а вид сквозь колосья пшеницы, с размытым на заднем плане силуэтом Виктора, работающего в поле.
Утром приехала делегация из района – тот же чиновник в костюме и с ним еще несколько официальных лиц. Они с любопытством разглядывали фотографии, переходя от одной к другой.
– Это что, дом-музей Штеффена? – спросил один из них, останавливаясь перед снимком, на котором Ирма показывала детям старинную прялку. – Никогда там не был, хотя живу в соседнем районе.
– А это наша пекарня, – с гордостью сказала Наталья, указывая на фотографию, где пожилая женщина вынимала из печи традиционный меннонитский хлеб. – Там до сих пор пекут по рецептам, которым больше ста лет.
Чиновники переговаривались между собой, и Олег заметил, как меняется выражение их лиц – от формального интереса к искреннему удивлению и даже восхищению.
Последним экспонатом была не фотография, а проект информационного стенда, который Олег сделал вместе с Лизой. На нем была краткая история села, объяснение происхождения названия и несколько фотографий, показывающих жизнь Неудачино в разные эпохи.
– Это могло бы стоять рядом со знаком, – пояснил Олег. – Туристы по-прежнему будут делать свои селфи, но, возможно, некоторые захотят узнать больше и заглянут в село.
Главный чиновник задумчиво потер подбородок.
– Знаете, это действительно интересная идея. И гораздо дешевле, чем полная замена знака. Я думаю, мы можем пересмотреть проект.
После ухода официальных лиц выставку открыли для всех жителей села. Люди приходили семьями, узнавали себя и соседей на фотографиях, смеялись, иногда украдкой вытирали слезы. Олег стоял в стороне, наблюдая за их реакцией.
– Ты сделал что-то важное, – сказала подошедшая Ирма. – Ты показал нам, как нас видят другие. Иногда нужен взгляд со стороны, чтобы увидеть ценность того, к чему привык.
Вечером, когда большинство посетителей разошлись, Олег собирал свое оборудование. Завтра ему предстояло ехать дальше – в его списке было еще много необычных названий.
– Уезжаешь? – спросила Лиза, помогавшая ему упаковывать фотографии.
– Да, пора двигаться дальше.
– А ты вернешься? Когда будут устанавливать новый информационный стенд?
Олег задумался. Обычно он не возвращался в места, где уже побывал. Мир слишком велик, а жизнь слишком коротка.
– Знаешь, – сказал он наконец, – думаю, вернусь. Хочу сделать снимок нового стенда для своей коллекции.
На следующее утро, уезжая из Неудачино, Олег остановился у знаменитого дорожного знака. Туристы, как обычно, толпились вокруг, делая селфи. Он достал фотоаппарат и сделал последний снимок – не самого знака, а людей рядом с ним, их улыбающихся лиц, их мимолетного счастья от встречи с чем-то необычным.
В зеркале заднего вида он видел, как постепенно исчезает указатель с надписью «Неудачино». Но теперь это название значило для него гораздо больше, чем просто забавное слово в коллекции.
Через три месяца выставка «Россия в названиях» открылась в областном центре. На центральной стене висела увеличенная фотография дорожного знака «Неудачино», а рядом с ней – десятки снимков, показывающих настоящую жизнь села. И где-то среди них – маленькая фотография нового информационного стенда, на открытие которого Олег все-таки вернулся.
Справка об объектеДорожный знак «Неудачино»,
Россия, Новосибирская область,
Татарский район, д. Неудачино
Любой путешественник не останется равнодушным, чтобы остановиться и сделать селфи с необычным названием населенного пункта.

Циферблаты памяти
Галина Кузнецова
Навигатор в телефоне Лизы сдался на последних километрах пути, и теперь она ехала наугад, щурясь от яркого июльского солнца. Пыльная дорога петляла между полями пшеницы, а указатель на Неудачино так и не появлялся. Лиза нервно постукивала пальцами по рулю, привычка, от которой она безуспешно пыталась избавиться уже несколько лет.
– Неудачино, – пробормотала она, в третий раз проверяя редакционное задание. – Кто вообще называет так село?
Наконец показался потрепанный дорожный знак. Лиза свернула на еще более узкую дорогу и через десять минут въехала в село – несколько улиц с аккуратными домами, многие из которых выглядели непривычно: высокие крыши, ставни на окнах, резные наличники в необычном стиле.
Припарковавшись у небольшого магазина, она достала зеркальце и поправила короткие рыжие волосы, выбившиеся из-под заколки. Тушь немного размазалась от жары, но переделывать макияж было лень.
– Извините, – обратилась она к пожилой женщине, выходившей из магазина. – Где здесь музей Штеффена?
– Прямо и направо, – женщина окинула Лизу оценивающим взглядом. – Белый дом с синими ставнями. Там Марта сегодня.
Дом-музей оказался именно таким, как описала женщина – аккуратный, будто сошедший со страниц сказки. Лиза сделала несколько снимков для статьи и толкнула калитку. Во дворе, среди ухоженных клумб с яркими цветами, стояла женщина лет пятидесяти в длинной юбке и белой блузке с вышивкой. Она поливала цветы из старинной медной лейки.
– Здравствуйте, – Лиза натянула дежурную улыбку. – Я из журнала «Путешествия по России». Мы договаривались о статье.
Женщина повернулась, и Лиза заметила ее необычные глаза – светло-голубые, почти прозрачные, как будто выцветшие на солнце.
– Элизабет? – спросила она с легким акцентом.
– Просто Лиза, – поправила журналистка, протягивая руку.
– Марта, – женщина вытерла ладонь о фартук и пожала руку Лизе. – Ты вовремя. Чай как раз заварился.
– Вообще-то я хотела бы сразу начать, – Лиза достала блокнот. – У меня еще сегодня дорога обратно.
Марта посмотрела на нее с легкой улыбкой, словно видела насквозь.
– Время, – сказала она, – самое ценное, что у нас есть. Но иногда нужно его потратить, чтобы понять его ценность. Идем, я покажу тебе дом человека, который это понимал лучше всех.
Лиза вздохнула, но послушно пошла следом. Еще один провинциальный музей с пыльными экспонатами и скучными историями. Статья на две колонки, не больше. Редактор явно отправил ее сюда в наказание за прошлый конфликт.
Прохлада дома обволокла Лизу, как только она переступила порог. После жаркого дня это было приятно, но что-то еще заставило ее замедлить шаг – звук. Тихий, ритмичный, идущий отовсюду и ниоткуда одновременно.
– Тик-так, тик-так, – Марта улыбнулась, заметив, как Лиза прислушивается. – Сорок семь часов в доме. Абрам Яковлевич говорил, что это сердцебиение дома.
Лиза огляделась. Действительно, часы были повсюду – на стенах, на полках, на столах. Большие и маленькие, деревянные и металлические, с маятниками и без.
– Все работают? – спросила она, доставая фотоаппарат.
– Каждые, – кивнула Марта, ведя гостью через гостиную в небольшую комнату, служившую, видимо, столовой. – Я завожу их каждое утро. Это моя… как это по-русски… медитация?
В центре столовой стоял круглый стол, накрытый вышитой скатертью. На нем – три чайных сервиза, расставленные так, словно вот-вот должно было начаться чаепитие.
– Свадебные подарки, – пояснила Марта, заметив взгляд Лизы. – 1951 год. Абрам и Екатерина поженились.
Лиза сделала несколько снимков, но ее внимание привлекла стеклянная витрина у стены. Под стеклом лежала старая книга в потрепанном кожаном переплете.
– А это что? – она подошла ближе.
– Книга рецептов Елены Тевс, – Марта встала рядом. – Сто пятьдесят лет истории. Все рецепты на немецком.
Лиза наклонилась, рассматривая пожелтевшие страницы. Книга была открыта на рецепте какого-то пирога, аккуратный готический почерк покрывал страницу.
– Вы до сих пор готовите по этим рецептам? – спросила Лиза, больше из вежливости, чем из интереса.
– Ja, natürlich, – кивнула Марта, а затем, заметив непонимание на лице гостьи, перевела: – Да, конечно. Многие хозяйки в деревне до сих пор используют эти рецепты. Особенно на праздники.
Лиза сделала еще один снимок книги.
– А что это за пирог? – она указала на открытую страницу.
– Riwwelkuche, – произнесла Марта с особой интонацией, будто само название было вкусным. – Пирог с крошкой. Очень простой, но каждая семья делает его по-своему.
Она провела пальцем над стеклом, словно касаясь строк рецепта.
– Абрам Яковлевич очень любил этот пирог. Говорил, что вкус детства не меняется, даже когда все вокруг меняется.
Что-то в голосе Марты заставило Лизу посмотреть на нее внимательнее. Хранительница музея говорила о часовом мастере так, будто знала его лично, хотя по возрасту вряд ли могла помнить его молодым.
– Вы давно здесь работаете? – спросила Лиза.
– Десять лет, – ответила Марта. – С самого открытия музея. Но я знала Абрама Яковлевича с детства. Он был… как это сказать… душой нашего села.
Она вдруг встрепенулась, словно вспомнив что-то важное.
– Чай! Я совсем забыла про чай. Пойдем на кухню, я покажу тебе вафельницу, которой больше ста лет. И, может быть, – она хитро улыбнулась, – даже испечем вафли по рецепту из этой самой книги.
Лиза хотела возразить, что у нее мало времени, но неожиданно для себя кивнула. Почему-то мысль о свежеиспеченных вафлях по старинному рецепту показалась ей гораздо интереснее, чем быстрое фотографирование экспонатов.
На кухне пахло травами и свежим хлебом. Старинная чугунная вафельница, похожая на увесистые щипцы с узорными пластинами, лежала на столе рядом с современной электрической плитой – прошлое и настоящее соседствовали здесь так же естественно, как немецкая и русская речь в разговоре Марты.
– Раньше ее ставили прямо на угли, – пояснила хранительница, поглаживая вафельницу. – Но я использую плиту. Старые вещи должны жить, а не просто стоять под стеклом.
Лиза сделала несколько снимков, пока Марта готовила тесто, ловко смешивая ингредиенты в глиняной миске.
– Вы хорошо говорите по-немецки? – спросила Лиза, заметив, как Марта беззвучно шевелит губами, читая рецепт.
– Это мой родной язык, – ответила та, разогревая вафельницу. – В детстве я говорила только на немецком. Русский выучила уже в школе.
Она разлила тесто на горячие пластины, и комнату наполнил аромат ванили и корицы.
– Многие уехали, – продолжила Марта, ловко переворачивая вафельницу. – В девяностые, когда стало можно. Вернулись в Германию, хотя никогда там не были. Heimat, – она произнесла это слово с особой интонацией. – Родина. Сложное понятие для нас.
Лиза кивнула, делая заметки в блокноте. История немцев Поволжья и Сибири вдруг показалась ей гораздо интереснее, чем она ожидала.
– А вы почему остались? – спросила она.
Марта улыбнулась, доставая готовую вафлю – золотистую, с четким узором.
– Попробуй сначала, – она положила вафлю на тарелку и протянула Лизе. – Потом расскажу.
Вафля оказалась хрустящей снаружи и мягкой внутри, с тонким ароматом специй. Лиза не удержалась от одобрительного мычания.
– Вкусно, правда? – Марта довольно кивнула. – Теперь идем дальше. Я покажу тебе самое интересное.
Они прошли через гостиную, где Марта остановилась у большого настенного календаря с пометками на полях.
– Абрам Яковлевич вел ежедневные записи, – сказала она. – Погода, события в селе, рождения, свадьбы, смерти. Все записывал. Говорил, что время утекает сквозь пальцы, если его не поймать на бумаге.
В следующей комнате, служившей спальней, стояла аккуратно застеленная кровать с вышитым покрывалом. Над ней висели семейные фотографии в рамках.
– Здесь все как при жизни хозяев, – пояснила Марта. – Екатерина Штеффен умерла в 2005 году, но Абрам Яковлевич сохранил комнату нетронутой до самой своей смерти.
Лиза сделала еще несколько снимков, чувствуя странную неловкость, будто вторгалась в чужую интимную жизнь.
Последней они посетили мастерскую – небольшую комнату, заставленную инструментами, деталями часов и книгами.
– Его святая святых, – Марта обвела рукой пространство. – Здесь он создавал свои часы. Некоторые из них сейчас в Санкт-Петербурге, в Татарске, даже в Германии.
Лиза подошла к рабочему столу, где лежали аккуратно разложенные инструменты, лупы, шестеренки разных размеров. На стене висели чертежи и эскизы часов с пометками на немецком и русском.
– Он был не просто мастером, – продолжала Марта, бережно касаясь инструментов. – Он был… как это сказать… Zeitbewahrer. Хранитель времени.
Лиза заметила, что все часы в мастерской показывали разное время. Она указала на это Марте.
– Это не поломка, – улыбнулась хранительница. – Это намеренно. Каждые часы показывают особое время.
Она подошла к небольшим настольным часам с деревянным корпусом.
– Эти всегда показывают 5:17 утра. Время, когда родился его первый сын. А те, – она указала на настенные часы с маятником, – всегда 11:45. Время, когда он впервые приехал в Неудачино в 1945 году.
Лиза медленно обошла комнату, разглядывая часы. Каждые хранили свой момент времени, свою историю.
– Но как же они идут, если всегда показывают одно и то же время? – спросила она.
– Они идут, – загадочно ответила Марта. – Просто по-своему. Абрам Яковлевич говорил, что важные моменты времени никуда не исчезают. Они продолжают существовать, если мы их помним.
Лиза сделала еще несколько снимков мастерской, когда заметила в углу комнаты массивный сейф, выглядевший неуместно среди деревянной мебели и старинных инструментов.
– А это что? – спросила она, указывая на металлический ящик.
Марта подошла к сейфу, ее шаги были неожиданно тихими для женщины ее комплекции.
– Самое ценное, – ответила она и, к удивлению Лизы, достала из кармана фартука связку ключей. – То, что Абрам Яковлевич берег больше всего.
Она выбрала один ключ, вставила его в замочную скважину и повернула. Затем набрала комбинацию цифр на механическом замке. Дверца сейфа открылась с тяжелым металлическим скрипом.
Лиза ожидала увидеть драгоценности или деньги, но внутри лежали аккуратно сложенные тетради в потрепанных обложках и несколько толстых папок.
– Его дневники и летописи, – пояснила Марта, бережно доставая одну из тетрадей. – Он вел их с 1970 года, каждый день. Без пропусков.
Она открыла тетрадь на случайной странице. Аккуратный почерк покрывал линованную бумагу. Даты, имена, события – все было записано с педантичной точностью часового мастера.
– Здесь все, – Марта провела пальцем по строчкам. – Рождения, свадьбы, похороны. Кто уехал, кто вернулся. Погода, урожай, цены на рынке. Маленькая история большого мира.
Она перевернула страницу, и из тетради выпала фотография – цветной снимок группы людей возле здания сельсовета.
– Открытие нового здания в 1975 году, – пояснила Марта, поднимая фото. – Здесь Абрам Яковлевич уже известный мастер. Он сделал часы для фасада.
Она вдруг замолчала, глядя на фотографию со странным выражением лица.
– Кто еще на фото? – не удержалась Лиза.
– Мой отец, – тихо ответила Марта. – Он работал с Абрамом Яковлевичем. Помогал устанавливать часы.
Она аккуратно вложила фотографию обратно и достала из сейфа еще одну тетрадь, более новую.
– А это последние записи, – сказала она. – 2010—2011 годы. Перед смертью.
Лиза осторожно взяла тетрадь. Почерк здесь был уже не таким твердым, строчки иногда дрожали, но все так же аккуратно выстраивались в ровные ряды.
– «12 марта 2011 года. Сегодня уехала семья Бергов. Последние из старожилов. Теперь в Неудачино не осталось никого из тех, кто помнит пятидесятые», – прочитала Лиза вслух. – «Время утекает, как песок сквозь пальцы. Но я все еще держу его».
Она перевернула страницу и замерла. На следующем развороте лежал сложенный лист бумаги с печатью и официальными штампами.
– Что это? – спросила она, не решаясь прикоснуться к документу.
Марта осторожно развернула лист.
– Приглашение из Германии, – сказала она. – Программа репатриации. Абрам Яковлевич получил его за месяц до смерти.
Лиза посмотрела на дату в углу документа – февраль 2011 года.
– Он не поехал, – констатировала она.
– Не успел, – поправила Марта. – Или не захотел. Кто знает?
Она бережно сложила документ и вернула его в тетрадь.
– Последняя запись датирована 15 апреля 2011 года, – сказала она. – «Сегодня починил часы для школы. Мои руки уже не те, но время все еще слушается меня. Интересно, что станет со всеми этими часами, когда мое время остановится? Кто будет их заводить?»
Марта закрыла тетрадь и посмотрела на Лизу своими прозрачными глазами.
– Через два дня его не стало, – сказала она. – Сердце остановилось во сне. Говорят, самая легкая смерть.
Она вернула тетрадь в сейф и достала последний предмет – небольшую шкатулку из темного дерева.
– А это, – она открыла крышку, – его последняя работа.
Внутри лежали карманные часы на цепочке. Простые, без излишеств, но с необычным циферблатом – вместо цифр на нем были выгравированы маленькие символы: дом, дерево, книга, ключ.



