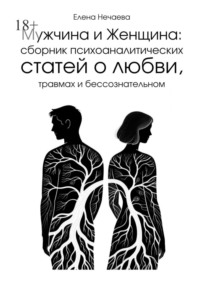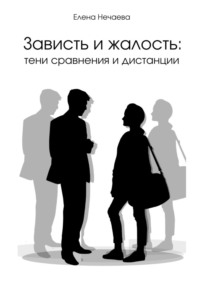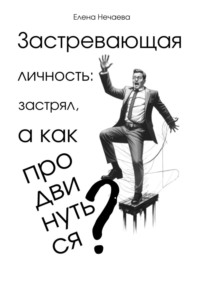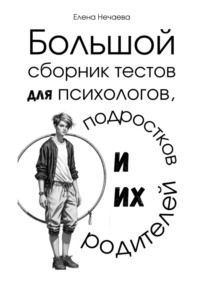Полная версия
Психоаналитик в нормативных и ненормативных кризисах: путеводитель по уязвимости
Может возникнуть хроническое чувство вины: перед пациентом за опоздание, перед ребёнком – за отсутствие, перед собой – за невозможность быть «достаточно хорошим» и там, и там.
Особенно остро этот кризис переживается женщинами-аналитиками. Хотя формально современные школы декларируют гендерное равенство, институциональная культура психоанализа по-прежнему не адаптирована к материнству.
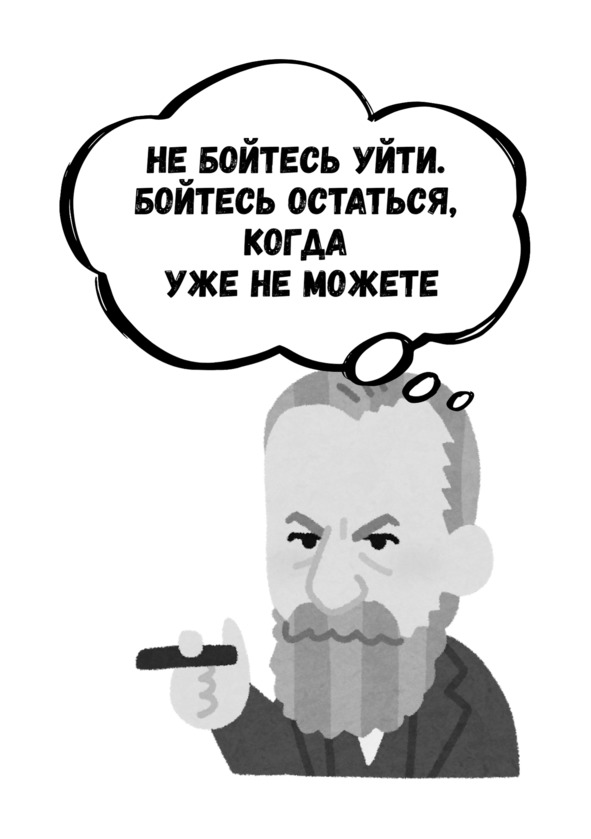
Отпуск по уходу за ребёнком, если и предоставляется, редко сопровождается поддержкой при возвращении к практике. Нет механизмов гибкого графика, нет наставничества для молодых родителей, нет признания того, что перерыв в практике – не признак ослабления профессиональной вовлечённости, а закономерный этап биографии.
В результате многие женщины-аналитики либо вынуждены уходить из профессии, либо возвращаются в состояние хронического напряжения, пытаясь «наверстать упущенное».
С точки зрения психоаналитической теории, этот кризис можно интерпретировать как конфликт между двумя позициями заботы.
С одной стороны – позиция аналитика как «достаточно хорошей матери» по Винникотту, способного терпеть неопределённость, откладывать действия, быть «пустым» для пациента. С другой – позиция реальной матери, которая не может позволить себе быть «пустой», потому что её тело и время заняты прямым уходом.
Этот конфликт может проявляться в соматических симптомах (усталость, бессонница, тревожные состояния), в нарушении границ (попытки вести сессии во время кормления, перенос времени в последний момент), в избегании новых пациентов из-за страха не справиться.
Более того, сам процесс материнства – особенно в первые годы – связан с глубокими переживаниями регрессии, зависимости, потери автономии, которые аналитик, как правило, старается не переносить в терапевтическое пространство. Однако именно эти переживания могут активировать незавершённые собственные конфликты, связанные с детством, что усложняет контрпереносную работу.
Аналитик может бессознательно проецировать на пациентов свои чувства по отношению к ребёнку – как заботу, так и раздражение, – или, наоборот, отстраняться от пациентов с детьми, чтобы избежать эмоциональной перегрузки.
Для мужчин-аналитиков этот кризис проявляется иначе.
Он связан не с физиологической вовлечённостью, а с трансформацией семейной идентичности и перераспределением ролей.
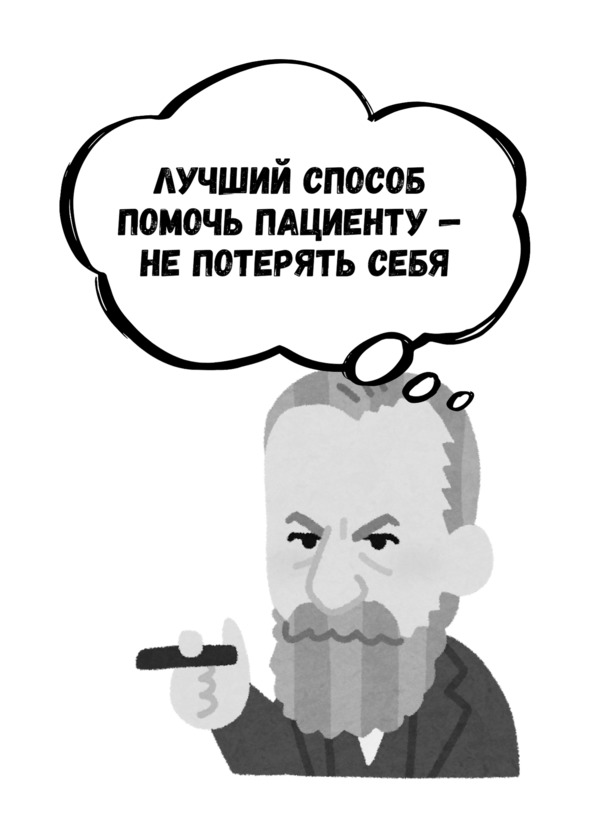
Мужчина-аналитик может столкнуться с давлением быть «основным кормильцем», что усиливает зависимость от количества сессий и снижает возможность сокращения практики.
В то же время его участие в уходе за ребёнком может быть недостаточно признано как профессиональный вызов, что усиливает чувство изоляции.
Институционально этот кризис часто не существует.
В уставах школ, в образовательных программах, в этических кодексах нет положений, регулирующих положение аналитика-родителя. Нет анонимных консультаций, нет групп поддержки, нет или недостаточно обсуждения в супервизии вопросов совмещения.
Более того, сам запрос на гибкость может восприниматься как снижение профессиональной компетентности.
В результате аналитик оказывается в положении двойного молчания: он не может говорить о своей уязвимости как родителя, и не может говорить о ней как аналитик.
Международный опыт показывает, что некоторые ассоциации, в частности Британская психоаналитическая ассоциация, начинают внедрять политику поддержки родителей, включающую:
– продление срока супервизии после возвращения из отпуска;
– гибкие формы обучения;
– группы для аналитиков с детьми;
– признание периода ухода за ребёнком как части профессионального пути.
Такие меры не ослабляют стандарты, а, напротив, укрепляют этическую целостность профессии, поскольку позволяют аналитику оставаться в профессии без риска для психического здоровья и терапевтической эффективности.
Кризис «аналитика-матери/отца» – экзистенциальный вызов, связанный с необходимостью переосмыслить профессиональную идентичность в контексте биографической трансформации. Он требует как индивидуального преодоления, так и системной рефлексии и институциональных изменений.
Признание этого кризиса как нормативного – важный шаг к созданию более гуманной, гибкой и этичной культуры психоанализа, в которой «быть человеком-родителем» не противоречит «быть аналитиком».
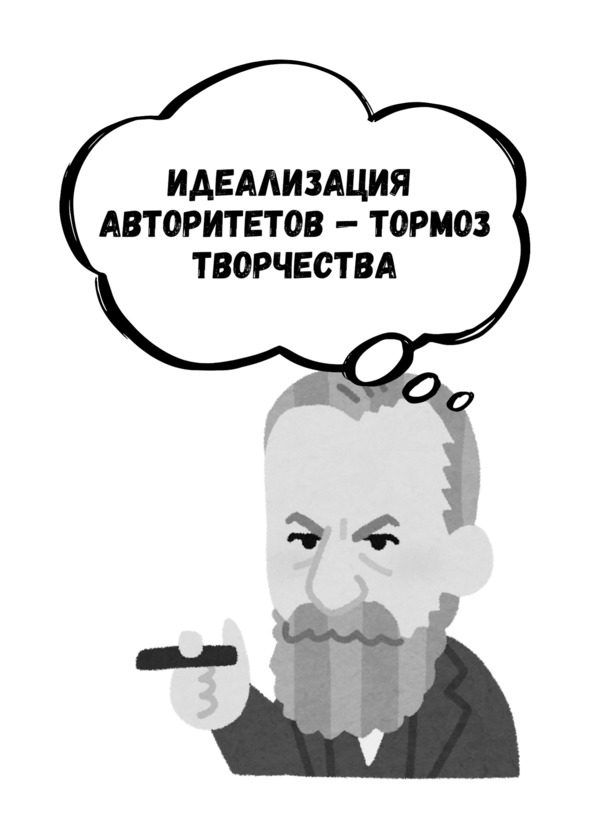
Профессиональная деформация, как симптом нормативных кризисов и «хождение в народ»
Профессиональная деформация – это не самостоятельный кризис, а симптом, сопровождающий и проявляющийся в рамках нескольких типов кризисов. Она не возникает сама по себе, а является клиническим выражением напряжения между личным и профессиональным, между внутренним миром аналитика и требованиями его позиции.
Профессиональную деформацию можно отнести к следующим типам кризисов:
1. Кризис границ (нормативный).
Это – основной контекст, в котором проявляется профессиональная деформация. Она возникает, когда аналитик теряет способность удерживать границы между «из жизни – в профессию» и «из профессии – в жизнь».
Вместо того чтобы использовать профессиональные навыки в терапевтическом контексте, он начинает автоматически «анализировать» друзей, родственников, чиновников, водителей такси.
С точки зрения теории, это связано с нарушением контейнирующей функции (Бион). Аналитик, не имея достаточного контейнирования со стороны супервизора или личного анализа, начинает «выливать» функцию контейнера в повседневную жизнь.
Деформация в этом случае – не признак силы, а признак перегрузки.
2. Кризис идентичности (нормативный).
Профессиональная деформация часто сопровождает кризис формирования профессиональной идентичности, особенно на ранних этапах практики.
Когда аналитик ещё не сформировал устойчивую позицию, он склонен «надевать» профессию как маску. Он не «является» аналитиком – он «играет» в аналитика.
Эта игра проявляется как деформация: излишняя интерпретация, навязчивое слушание, попытки «лечить» всех подряд.
На этапе обучения аналитик ищет ответ на вопрос: «Кто я – как аналитик?». Пока этот вопрос не решён, профессия становится внешним атрибутом, а не внутренним состоянием. И тогда деформация – это попытка утвердиться в новой идентичности, пусть даже и через искажение.
3. Кризис середины карьеры (нормативный).
В фазе зрелой практики, когда возникает вопрос «А зачем я это делаю?», профессиональная деформация может проявляться иначе: не как навязчивость, а как механизм выживания.
Аналитик, уставший от рутины, может сознательно использовать свои навыки вне кабинета – как способ почувствовать свою силу, значимость, эффективность.
Как в примере с бюрократом (далее): «Хм, а это, оказывается, работает!» – это попытка восстановить чувство агентности.
В этом случае деформация становится ресурсом, позволяющим пережить экзистенциальную усталость.
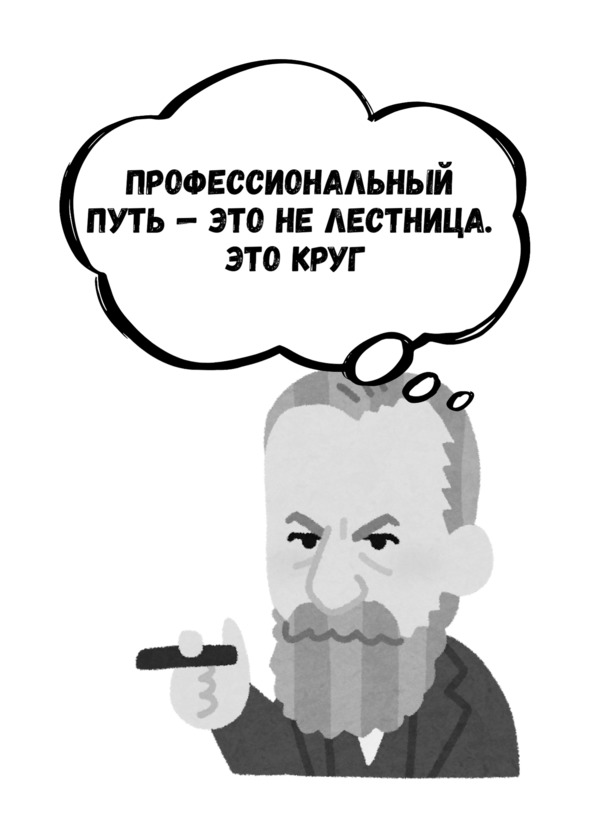
4. Кризис выгорания (ненормативный).
Когда аналитик переживает хроническое эмоциональное истощение, профессиональная деформация может выступать как защитный механизм от полной дезинтеграции.
Он продолжает «работать» – но уже не в терапии, а в быту. Это может быть формой самосохранения: если нельзя больше слышать пациента, то хотя бы можно «услышать» того, кто не пациент.
Однако в этом случае деформация уже приближается к патологическому состоянию, так как свидетельствует о потере способности к отдыху, к бытию «просто человеком».
5. Кризис «аналитика-матери/отца» (нормативный).
Когда аналитик совмещает практику с родительством, деформация проявляется особенно остро. Он начинает анализировать собственного ребёнка, интерпретировать его поведение, искать в нём перенос.
Это – не злой умысел, а результат отсутствия разделения между ролями. Профессия, требующая постоянного присутствия, не позволяет «выключиться», и тогда деформация становится побочным эффектом вовлечённости.
Профессиональная деформация – это не болезнь, а индикатор.
Профессиональная деформация – это не кризис сам по себе, а маркер кризиса.
Она указывает на:
– потерю границ;
– незавершённость идентичности;
– усталость от повторения;
– потребность в признании;
– перегрузку контейнера.
Если она осознана и контролируема, она может стать ресурсом – как в примерах (далее).
Если она неосознанна и неконтролируема, она превращается в механизм вытеснения, угрожающий и аналитику, и пациенту.
Поэтому задача не в том, чтобы «избавиться» от деформации, а в том, чтобы научиться с ней жить, распознавать её проявления и вовремя возвращаться к себе – к телу, к тишине, к простому бытию.
Перейдем к размышлениям и примерам
Термин «профессиональная деформация» – один из тех, что повисают в воздухе профессионального дискурса, как старая пыльная штора: все на неё смотрят, все знают, что она есть, но никто не хочет её снимать.
Само выражение, честно говоря, давно набило оскомину. Оно звучит как приговор, как признание слабости, как признак того, что ты «перегорел» или «слишком глубоко вошёл в роль».
И всё же, если отложить клише и взглянуть на феномен с юмором и чуть большим вниманием, можно обнаружить, что профессиональная деформация – это не только искажение, но и трансформация, не только утрата границ, но и расширение способности видеть.
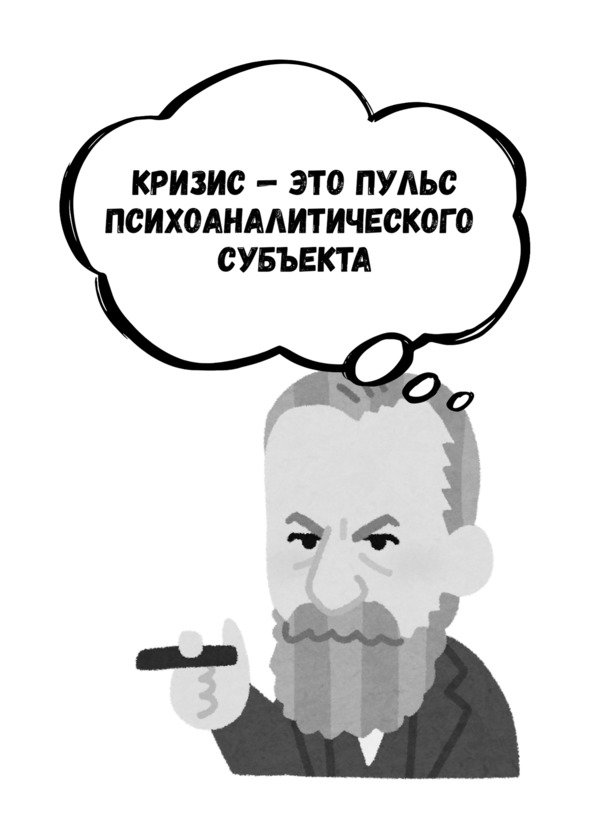
С филологической точки зрения, слово «деформация» вовсе не несёт в себе негативной оценки. Это просто изменение формы.
А «профессиональная» – признак качества.
Получается, речь идёт о деформации «высокого уровня», о способности сознания так глубоко интегрировать профессиональный опыт, что он начинает работать не только в кабинете, но и за его пределами.
Это – следствие интенсивного проживания профессии.
Конечно, существует традиционное понимание профессиональной деформации как нарушения границ между личным и профессиональным, когда аналитик начинает «интерпретировать» родственников, «анализировать» друзей, «держать контейнер» в очереди за хлебом.
Но я хочу пойти немного дальше.
Предлагаю посмотреть на этот феномен не как на недостаток, а как на непреднамеренное оружие здравого смысла, которое может оказаться полезным даже в самых неожиданных обстоятельствах.
Пример: «Бюрократ под прицелом проф. деформации»
Так сложилось, что вне профессиональной среды я никогда, кроме самых близких, не сообщала, что работаю психоаналитиком. Слишком часто это вызывало либо неловкость, либо попытки «бесплатного сеанса», либо мифологизацию.
Так продолжалось много лет. Но однажды вмешалась жизнь – и случилось это как раз в самом начале моего «кризиса середины карьеры», когда возникал вопрос: «А зачем я это делаю?».
Визит в государственное учреждение был необходим и неизбежен. Я шла туда с чувством, близким к ужасу: очереди, равнодушие, бесконечные справки. Сотрудник, с которым мне предстояло говорить, оказался человеком средних лет, с усталым лицом и интонацией, выработанной годами повторения одних и тех же фраз.
В какой-то момент, пытаясь смягчить напряжение, он произнёс:
– Главное в нашей жизни – поменьше стрессов!
И уже собирался, судя по тону, прочитать мне лекцию о том, как не нервничать при подаче документов.
В этот момент что-то щёлкнуло. Точнее не «что-то», а та самая деформация. Я не сдержалась и «просканировала» бюрократа своим «профессиональным глазом», как будто начала работу с ним без его согласия и без контракта между нами.
С полной серьёзностью и осторожностью ответила:
– Прошу прощения, но я, как практикующий психоаналитик, о стрессах могу рассказать гораздо больше и глубже.
Он замолчал. Его лицо изменилось – сначала удивление, потом – замешательство, потом – что-то вроде уважения.
И вдруг он сказал:
– Моя мама – психолог.
В этот момент произошло чудо, я поняла, что сейчас он будет помогать не мне (как кому-то или чему-то безликому), а своей маме-психологу, которая оказалась «достаточно хорошей» (что я и почувствовала в контрпереносе, «сканируя»).
Он не просто перестал читать лекцию. Он начал помогать. Быстро. Эффективно. Даже с лёгкой улыбкой.
И я подумала: «Хм… а это, оказывается, работает!».
Не потому что я «внушала», не потому что «маневрировала», а потому что вышла из позиции жертвы системы в позицию субъекта, используя свой профессиональный статус как инструмент установления границ.
Получив вполне позитивный опыт проявления профессиональной деформации, я начала осторожно пробовать применять ее и далее, формально нарушая законы профессиональной этики, начиная «работать с пациентом», который не знает, что он сейчас – пациент.

И оказалось, что профессиональную деформацию можно применять в случаях, когда есть формальность, рамки, уже существующие или предполагаемые границы, которые не надо выстраивать, потому что они уже заданы (бюрократы, продавцы, водители такси и тому подобное).
Главным образом потому, что, во-первых, никому не вредит, во-вторых, облегчает процесс контактов в обе стороны.
Еще один пример «о бюрократах»
Нужно было получить справку, которая касалась неких преобразований в памятнике архитектуры. Процедура не из легких, она длительная, но мне нужно было «еще вчера» и срочно.
По совпадению, я встретила чиновника не в его кабинете, а на пороге учреждения. Первый взгляд на него включил во мне проф. деформацию. И, после приветствия, я сказала:
– Это вы здесь – главный архитектор? (как прапорщика назвать «генералом»)
Видели бы его лицо, – за доли секунды он отыграл роль, достойную Оскара. Он действительно хотел стать «главным архитектором», и я подтвердила, что он, как минимум «похож», что его «главность» считывается из вне. А это – подтверждение тому, что он «станет главным», конечно.
Справку я получила за несколько минут, вместо предусмотренных нескольких недель. «Считала» бы я его «тайное желание» без применения деформации? Думаю, что нет.
Здесь хочу привести обощение
Это не чья-то прямая речь и не цитата, но слова гипотетического коллеги, почти под каждым словом которого могу подписаться, как и кто-то из читателей.
Представим, что наш коллега говорит так:
«Иногда мне кажется, что я – кабинетный червяк. Не в обиду себе, конечно, а как метафора. Моя жизнь проходит в пещере – кабинете. Четыре стены, пол, потолок.
Есть окно. Иногда оно зашторено – чтобы с улицы не заглядывали, потому что у меня есть параноидальные пациенты. Иногда в нем приоткрыта форточка, чтобы проветрить после сессии, но улицу всё равно не видно. Окно есть, но оно как рамка кадра в кино – обрезает реальность, показывает только фрагмент. Никогда целиком.
Между сессиями – пять, от силы десять минут. За это время я успеваю сделать несколько шагов по кабинету, глотнуть воды, посмотреться в зеркало, может, съесть кусок яблока. И снова – в кресло. Так проходит день. Так проходят недели. Годы.
Внешний мир я вижу только по пути в кабинет и обратно. Утром – метро, тротуар, витрины. Вечером – то же самое, но в обратном порядке. Часто – пересечение с коллегами на конференции, в супервизии, на каком-нибудь профессиональном мероприятии. Но и это – не мир. Это – отражение мира, как в зеркале, где все говорят на одном языке.
А потом – вдруг – я попадаю туда, где этого языка не понимают. На день рождения друга. В ресторан. Или на городское мероприятие – фестиваль, выставку, концерт. И в этот момент я ловлю себя на странном ощущении: я не здесь, но и не в кабинете. Я – между.
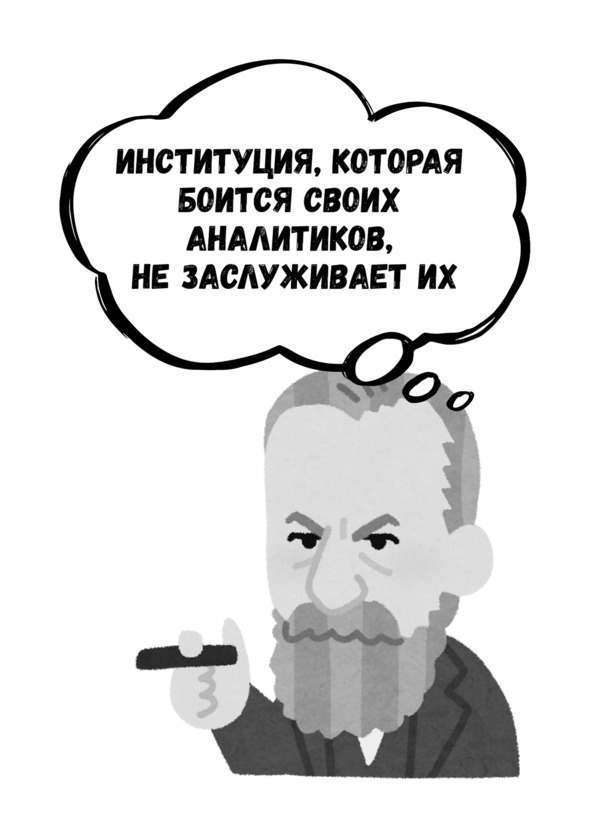
Как будто я впервые вижу «обычных людей». Не пациентов. Не коллег. Просто людей. Которые смеются громко, говорят о погоде, обсуждают сериалы, толкаются, шутят, не думая о переносе. И я вдруг теряюсь. Не физически, а внутренне. Я не знаю, как быть в этом пространстве. Как вести себя. Как слушать. Как смеяться. Как не анализировать. Как говорить «глупости без глубины».
Я чувствую себя как антрополог, который слишком долго жил в изоляции и вдруг вернулся в цивилизацию. Всё знакомо, но всё – непривычно.
Я называю это «хождение в народ». Не как иронию. А как необходимость. Потому что в какой-то момент я понял: если я слишком долго живу только в кабинете, я начинаю терять ощущение реальности. Не в смысле психоза. А в смысле отрыва от живого контакта.
Я начинаю забывать, как это – быть просто человеком. Не контейнером. Не интерпретатором. Не тем, кто «держит». А тем, кто просто присутствует. И тогда я начинаю замечать: мне становится почти невыносимо быть среди «обычных людей».
Я чувствую раздражение. Усталость. Стыд. Нелепость. Хочется уйти. Спрятаться. Назад – в кабинет. Где всё понятно. Где я знаю правила. Где я – в позиции. Но я знаю: это – сигнал.
Сигнал, что я погрузился слишком глубоко. Что я начал жить только в профессии, а не в жизни. Что я перестал видеть мир, а видел только его отражение в глазах пациентов.
И тогда я заставляю себя «выходить в народ». Не для развлечения. Не ради «отдыха».
А для профилактики и калибровки. Я иду в парк. Стою в очереди в магазине. Разговариваю с соседом о кошке. Смотрю, как дети играют. Слушаю, как кто-то ругается. Не интерпретирую.
Не анализирую. Просто воспринимаю. И постепенно – возвращаюсь к себе. К ощущению, что я – не только аналитик. Что я – и человек. Что есть «просто мир», «просто реальность», «просто люди», которым искренне неинтересен психоанализ, и они живут без него.
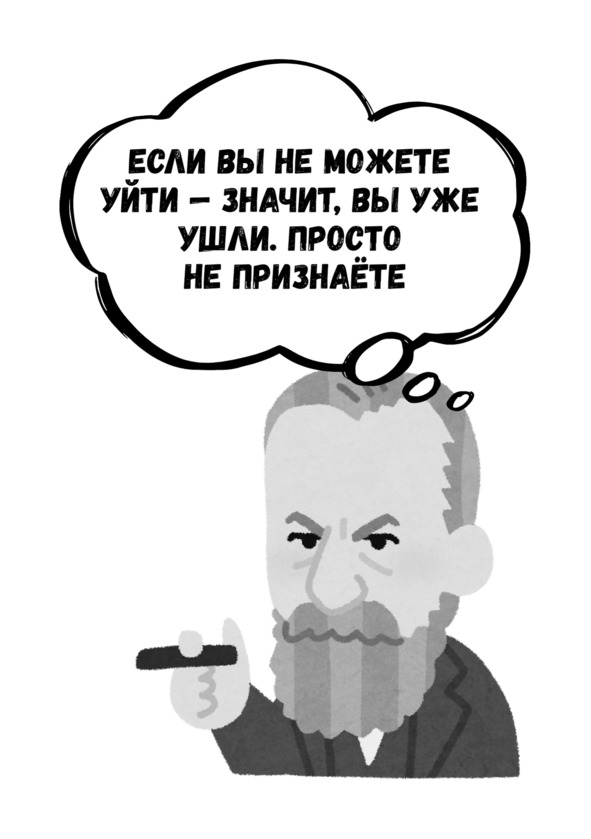
И когда я снова сижу в кресле, я чувствую: я стал чуть живее, чуть менее «червяком». Потому что, оказывается, чтобы слышать других, иногда нужно перестать слушать».
Таким образом, одной из наиболее доступных и эффективных форм профилактики профессиональной деформации становится то, что я условно называю «хождение в народ» – регулярное, осознанное присутствие в повседневной жизни вне профессионального контекста.
Это своего рода возвращение к реальности, напоминание себе о том, что:
– психоанализ, несмотря на его глубину и значимость для нас, – лишь одна из многих форм человеческого опыта, и для большинства людей он остаётся непонятным, а порой и вовсе незначимым;
– мы не являемся «элитой», как бы мы ни оправдывали это сложностью нашей работы; мы – часть общества, а не наблюдатели сверху;
– житейские заботы, радости, конфликты, которые переживают «обычные люди», не менее значимы, чем любые внутренние переживания, приносимые в кабинет;
– именно из «внешнего мира» наши клиенты приносят в наш кабинет то, что приносят;
– внешний мир – не «опасная зона», подрывающая нашу профессиональную стабильность, а пространство, в котором мы, как и все, имеем право просто быть;
– стремление анализировать всё и всех за пределами кабинета делает нас похожими не на мудрых наблюдателей, а на стоматолога, который на прогулке не может не замечать кариес у каждого встречного, или на травматолога, бессознательно желающего, чтобы кто-то упал – лишь бы не потерять смысл своей профессии;
– в масштабах человеческой жизни наша позиция, наши сомнения и кризисы могут показаться нелепыми – и это не унижение, а освобождение.
Такое «заземление» помогает снять напряжение чрезмерной значимости, которой мы окутываем и себя, и свою профессию. Оно возвращает ощущение пропорций.
Важно отметить, что «хождение в народ» работает не только в сторону смирения, но и в сторону восстановления перспективы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.