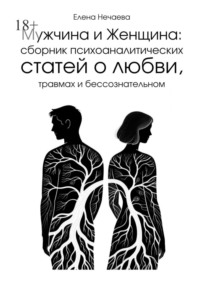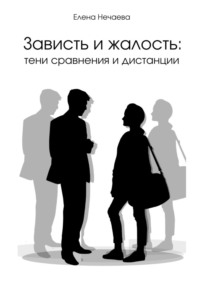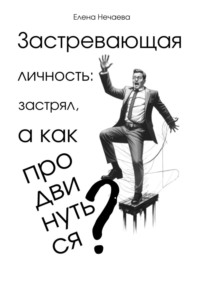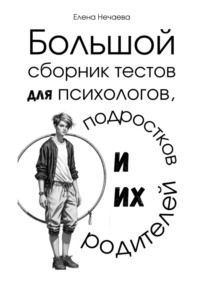Полная версия
Психоаналитик в нормативных и ненормативных кризисах: путеводитель по уязвимости
Кризис аналитика в этой перспективе – это осознание своей травматичности как фигуры знания.
Он может переживать:
– вину за «насилие интерпретации»;
– страх «исказить» пациента;
– сомнение в праве говорить.
Лапланш призывает к этике незавершённости: аналитик не должен претендовать на истину, а должен оставаться в положении вопроса, в открытости к неизвестному.
Теория показывает: кризисы психоаналитика – воплощение глубинных психических процессов, заложенных в самой структуре анализа.
Они – следствие:
– бессознательных конфликтов (Фрейд);
– динамики позиций (Кляйн);
– перегрузки контейнера (Бион);
– утраты присутствия (Винникотт);
– травматичности передачи (Лапланш).
Понимание этих механизмов позволяет не патологизировать кризис, а интерпретировать его как сигнал, приглашение к более глубокому самопониманию и этической ответственности.
Теперь, когда мы рассмотрели теоретические основания, перейдём к практической диагностике.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТРЕССОМ, КРИЗИСОМ И ПАТОЛОГИЕЙ
Важно провести чёткое различие между кризисом, стрессом и патологией, чтобы избежать как излишней патологизации нормальных процессов, так и недооценки серьёзных нарушений.
Стресс – это кратковременная реакция на внешнюю нагрузку (например, перегрузка сессиями, сложный пациент, административные задачи). Он может быть функциональным, мобилизующим ресурсы, и не всегда требует вмешательства.
Стресс управляем через отдых, реорганизацию графика, техническую поддержку.
Кризис – это более глубокое и продолжительное состояние, затрагивающее идентичность, смысловую структуру и профессиональное самоощущение. Он требует рефлексии, поддержки и, зачастую, пересмотра профессиональных установок.
Патология – это уже нарушение психического функционирования, которое мешает профессиональной деятельности и может угрожать пациенту.
Сюда относятся:
– депрессивные эпизоды с суицидальными мыслями;
– панические атаки, мешающие работе;
– психосоматические расстройства;
– нарушения границ (например, сексуализированные отношения с пациентами);
– психотические или параноидные переживания.
Ключевое различие:
кризис включает рефлексию и потенциал роста, тогда как патология часто сопровождается отрицанием, защитным ригидным поведением и утратой способности к самонаблюдению.
Важно, чтобы институции и коллеги умели распознавать эти различия: не превращать нормативный кризис в повод для стигматизации, но и не игнорировать признаки патологии под видом «профессионального выгорания».
Мы установили, что кризис – это неотъемлемая часть психоаналитического пути, имеющая психологическое, экзистенциальное и профессиональное измерение.
Он может быть как нормативным, ненормативным, гибридным и его значение определяется не столько самим событием, сколько реакцией на него и наличием поддерживающей среды.
В следующей главе рассмотрим нормативные кризисы – те, которые закономерно возникают на пути профессионального становления психоаналитика. Мы проследим их динамику от обучения до зрелой практики, покажем, как они связаны с этапами развития идентичности и какие функции они выполняют в формировании подлинного аналитического субъекта.
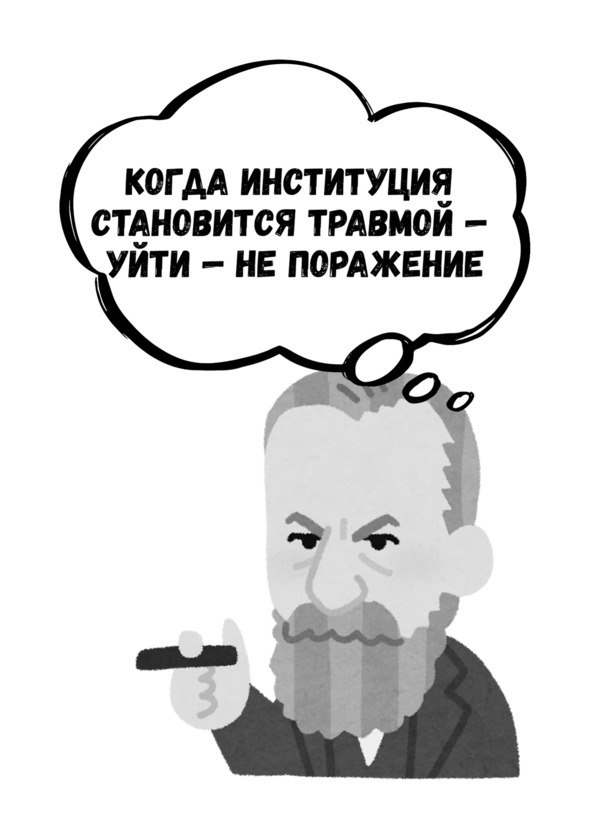
НОРМАТИВНЫЕ КРИЗИСЫ
Нормативные кризисы – это внутренние переломы, возникающие в ответ на объективные этапы профессионального развития.
Они предсказуемы, повторяются у большинства аналитиков и, как показывает клинический опыт, неизбежны для формирования зрелой, рефлексивной и этичной практики.
Мы опираемся на модели профессионального развития, предложенные Гиллом (Gill, 1982), Эттингером (Etchegoyen, 1991), Хорни (Horney, 1950), а также на данные супервизионных групп и личных анализов.
Далее выделяем ключевые нормативные кризисы, описываем их динамику, проявления и потенциал для роста.
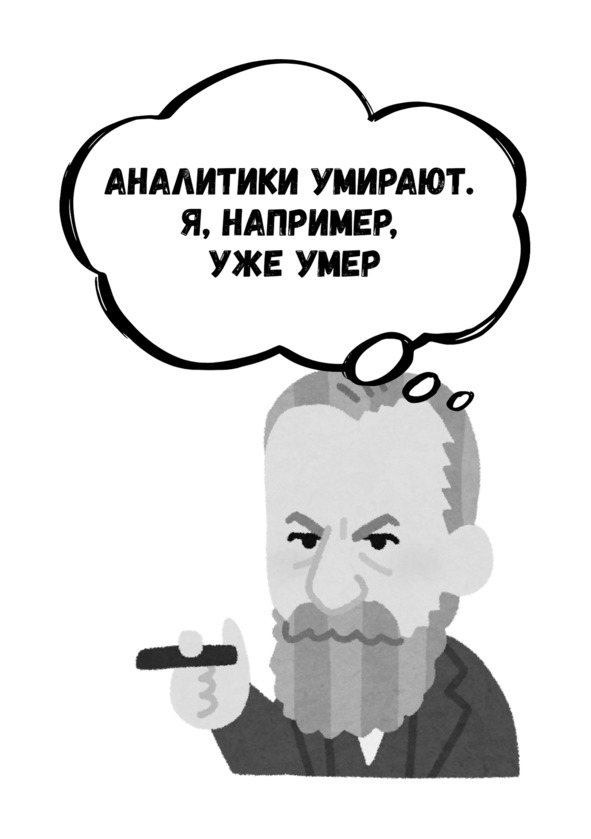
Этапы профессионального развития
Профессиональный путь психоаналитика можно условно разделить на несколько фаз, каждая из которых сопровождается своим кризисом.
1. Фаза обучения и формирования идентичности:
– зависимость от учителей, теорий, техник;
– поиск «правильного» способа ведения анализа.
Типичный кризис фазы: сомнение в собственной подлинности.
2. Фаза начала независимой практики:
– первые пациенты, страх «недостаточности»;
– попытка воспроизвести стиль наставников.
Типичный кризис фазы: импостер-синдром, боязнь ответственности.
3. Фаза зрелой практики (середина карьеры):
– устойчивая техника, но возможная рутинизация;
– вопросы смысла, усталость от повторяющихся тем.
Типичный кризис фазы: экзистенциальное сомнение, утрата энтузиазма.
4. Фаза поздней практики (старение, передача опыта):
– рефлексия на всей карьере;
– переживание утрат (пациентов, коллег, собственных сил).
Типичный кризис фазы: значение жизни как психоаналитика.
Каждый переход между фазами сопровождается кризисом отрыва и переосмысления, который, если проживается, ведёт к новому уровню профессиональной и личной интеграции.
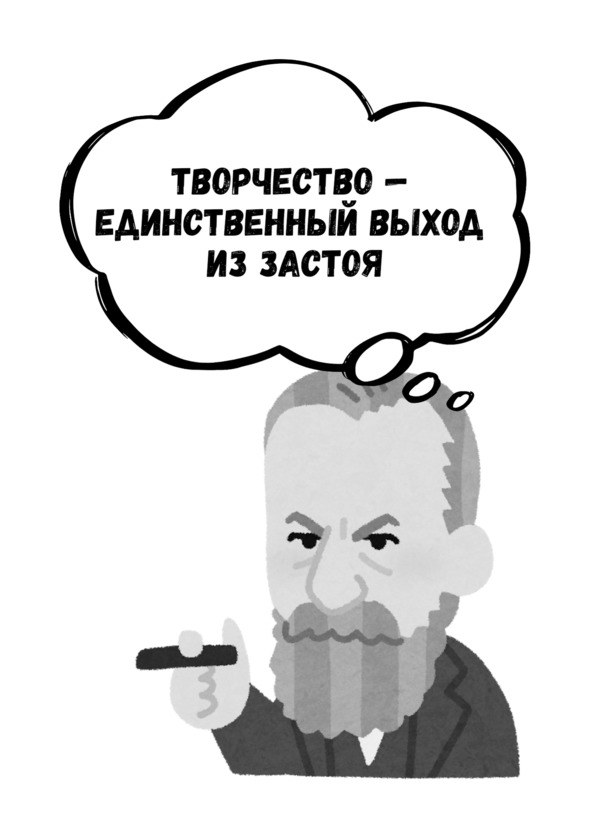
Кризис идентичности: «Кто я – как аналитик?»
Этот кризис возникает на ранних этапах обучения, когда будущий аналитик сталкивается с расхождением между образцами (Фрейд, Кляйн, Лакан и др., а также фигурами преподавателей во время обучения) и собственным внутренним голосом.
Он слышит разные интерпретации, разные стили, разные теоретические рамки – и начинает задаваться вопросом: «А кто я в этом поле? Могу ли я быть собой – и при этом оставаться аналитиком?».
Часто этот кризис проявляется как подражание: молодой аналитик «надевает» маску наставника, использует чужие формулировки, избегает собственных ассоциаций, интерпретаций и вообще «собственного».
Это защита от страха «ненастоящести».
Однако по мере личного анализа и супервизии возникает необходимость отказаться от маски и начать говорить от первого лица.
Ресурс: «Если я – не имитатор, то – кто?».
Допустим, супервизанд, прошедший личный анализ в лакановской школе, начинает практику и обнаруживает, что его внутренние реакции на пациента не укладываются в рамки «лакановского дискурса анализа». Он испытывает сочувствие, тревогу, желание «помочь» – что воспринимает как «отклонение». Мы работаем с его страхом «предать» школу. Постепенно он приходит к пониманию, что аналитическая позиция – не имитация, а аутентичное присутствие в ситуации.
Поделюсь одной неочевидной, но очень важной рекомендацией для начинающих коллег. Да, вы слышите от преподавателей всё необходимое: «отслеживайте себя» до «постепенно формируйте идентичность». Но есть ещё кое-что, о чём редко говорят: не только вы наблюдаете за собой – мир начинает наблюдать за вами. И важно наблюдать за тем/чем, кто/что наблюдает за вами.
Представьте: вы только начинаете практику или даже ещё не начали – просто учитесь, думаете, анализируетесь. Вы ещё не считаете себя «настоящим» аналитиком. Но вдруг – что-то сдвигается во внешнем мире.
Таксист, который обычно молчит, вдруг начинает рассказывать вам о своих отношениях, о детстве, о страхах – и в конце поездки удивлённо говорит: «Странно… Я же не болтливый. Почему я вам всё это выложил?».
Случайный знакомый вдруг задаёт вопросы, которые обычно задают пациенты в кабинете, хотя вы не сообщали о том, что вы – психолог. Родственник замечает: «Ты стал (а) другим» – и не важно, говорит он это с восхищением или с лёгким раздражением.
Это – проекция, перенос, но не иллюзия. Это – реакция мира на вашу внутреннюю трансформацию. Вы ещё не носите табличку «аналитик», но вы уже излучаете позицию, на которую начинают реагировать, том числе совершенно посторонние люди.
Когда я сама была в кризисе профессиональной идентичности, я зашла в магазин одежды, чтобы купить подарок мужу. Продавец – молодой человек – начал «следовать» за мной. Но не как агрессивный менеджер, а как кто-то, кто хочет быть полезным, но боится переступить границу. Он предлагал варианты, задавал уточняющие вопросы, но при этом был как будто напряжён и смущён.
Уже у кассы он вдруг громко засопел, как будто хотел задать вопрос, но не решался. Я посмотрела на него вопросительно. Подождала. И продавец собрался с духом:
– Можно задать вам личный вопрос?
– Да, конечно.
– Кто вы по профессии?
– Психоаналитик.
– Точно! Я так и подумал, как только вы вошли – или преподаватель, или врач! От вас что-то исходит…
Где в случае с продавцом «случился анализ»? Не в том, что продавец «был замечен» мною, не в разрешении задать «личный вопрос». И даже не в «посмотрела на него вопросительно». А в «подождала».
Важно замечать такие сигналы. Не как подтверждение: «Я теперь крутой аналитик». А как индикатор внутреннего сдвига. Что вы уже в процессе.
Что ваше присутствие меняет динамику встречи, даже если вы молчите, – главный маркер, пожалуй.
Это – не основа идентичности. Но это – поддержка извне, которую легко пропустить, если не обращать внимания.
Возможно, «настоящий аналитик» – тот, кого мир таковым признаёт. Заметьте, – не преподаватели, не личные аналитики, не наставники, не супервизоры, не те, кто учится вместе с вами, не институция, а мир. И вы лично.
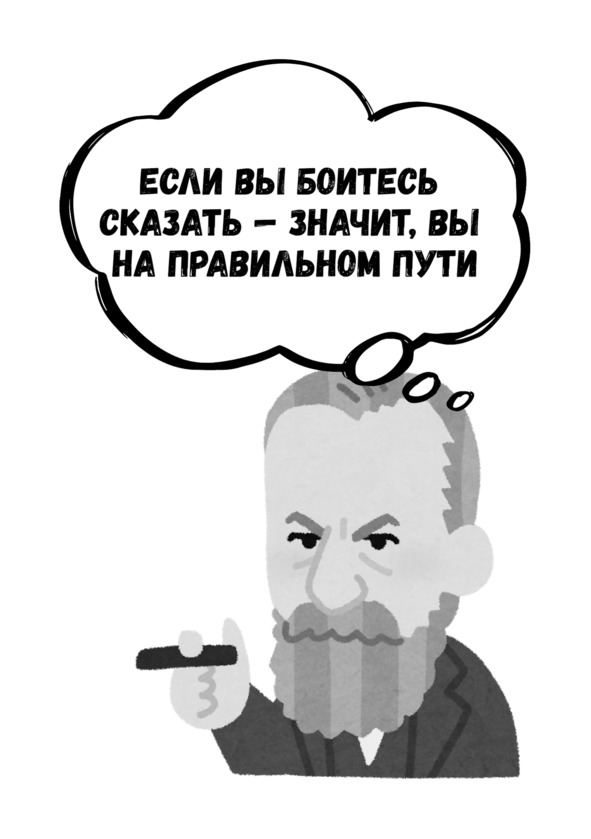
Кризис компетентности: страх «недостаточности» и импостер-синдром
Этот кризис особенно остр в первые годы независимой практики. Аналитик, впервые сидящий один на один с пациентом, может испытывать глубокое сомнение в своей способности «держать» процесс.
Он может опасаться:
– не услышать важное;
– дать вредную интерпретацию;
– потерять контроль;
– оказаться «разоблачённым» как «ненастоящий».
Импостер-синдром в психоанализе имеет особую глубину: он связан не просто с неуверенностью, а с внутренним обвинением в «обмане».
Ведь аналитик – это тот, кто «знает», «понимает», «лечит». А если он сам страдает, сомневается, боится – значит, он «недостоин»?
Между тем, именно сомнение – признак живого аналитика. Тех, кто не сомневается, следует опасаться: они, вероятно, застыли в защитной иллюзии всеведения.
Ресурс: признание своей ограниченности как условия подлинной встречи.
Винникотт писал о «достаточно хорошем» родителе – аналогично, «достаточно хороший» аналитик – это тот, кто не идеален, но присутствует честно.
Интересно, что импостер-синдром редко затрагивает тех, кто только пришёл в профессию. Он приходит после первых шагов, после того, как аналитик уже «выдержал» несколько месяцев практики, уже получил сертификат, уже вёл пациентов. То есть – в момент, когда снаружи всё говорит: «Ты – аналитик», а внутри звучит: «Но я-то знаю, что это не так».
Этот разрыв – между внешним признанием и внутренним отрицанием – и есть ядро кризиса. Он не про нехватку знаний. Он про неспособность принять легитимность своей позиции.
Психоаналитик, в отличие от врача или юриста, не получает объективного подтверждения своей компетентности. У него нет анализов (медицинских, например), решений суда, видимых результатов. Его работа – в тишине, в непредсказуемости, в отсутствии контроля. И потому единственным критерием становится его собственное ощущение: «Я – тот, кто может это делать».
Но это ощущение не приходит с дипломом. Оно не приходит вообще. Оно – процесс. И пока аналитик ждёт, когда он «появится», он остаётся в ловушке: «Я должен быть уверенным, чтобы быть аналитиком». Но, как показывает практика, именно сомнение и делает его аналитиком.
Есть и ещё один парадокс: чем больше аналитик изучает, читает, анализируется, тем сильнее становится импостер-синдром.
Потому что знания расширяют горизонт неизвестного.
Он начинает видеть: сколько он не знает, сколько не может понять, сколько ошибается. А это – не признак слабости, а признак зрелости.
Так что импостер-синдром – признак того, что аналитик стал слишком честным с собой. Он перестал верить в миф о «всезнающем аналитике» – и пока не научился жить без него.
И здесь особенно важна роль супервизора. Не как оценщика, не как хранителя догмы, а как того, кто может сказать: «Да, ты не знаешь. И это – нормально. Продолжай». Потому что доверие к аналитику – не следствие его компетентности. Оно – её основа.
Именно поэтому Винникотт (додумываю за классика) писал о «достаточно хорошем» родителе. Не о «совершенном», не о «всегда правильном». О том, кто может быть неидеальным – и при этом оставаться опорой. То же самое – и с аналитиком. Он не должен быть «всезнающим». Он должен быть достаточно присутствующим, достаточно честным, достаточно живым.
Остальное – приложится.

Кризис после завершения личного анализа: утрата опоры и поиск автономии
Завершение личного анализа – формальный ритуал, но для многих он становится глубоким экзистенциальным кризисом.
Аналитик теряет:
– регулярное пространство для самопонимания;
– фигуру аналитика как зеркало;
– чувство защищённости в процессе.
Многие описывают это как «падение с небес»: «Теперь я один. Кто будет меня анализировать, если я сорвусь?».
Этот кризис – первый шаг к автономии. Он требует перехода от зависимого анализа к постоянному самонаблюдению.
Аналитик должен научиться быть своим собственным аналитиком – не в смысле отказа от поддержки, а в смысле внутренней рефлексивной позиции.
Клиническая работа с этим кризисом включает:
– развитие привычки к саморефлексии (ведение дневника, письменный анализ собственных реакций);
– систематическую супервизию;
– участие в коллегиальных группах;
– готовность к повторному анализу (re-analysis) в будущем.
Все мы знаем, что личный анализ не заканчивается – он переходит в другую форму, и его (психоанализ) невозможно «развидеть».
Ресурс: развитие контакта с интроектом бывшего аналитика и его «перенастройка под себя».
Здесь сообщаю о своей книге, адресованной бывшим клиентам (как аналитикам, так и не аналитикам) – «Завершение личного психоанализа. Что будет дальше?» (Ridero, 2024).
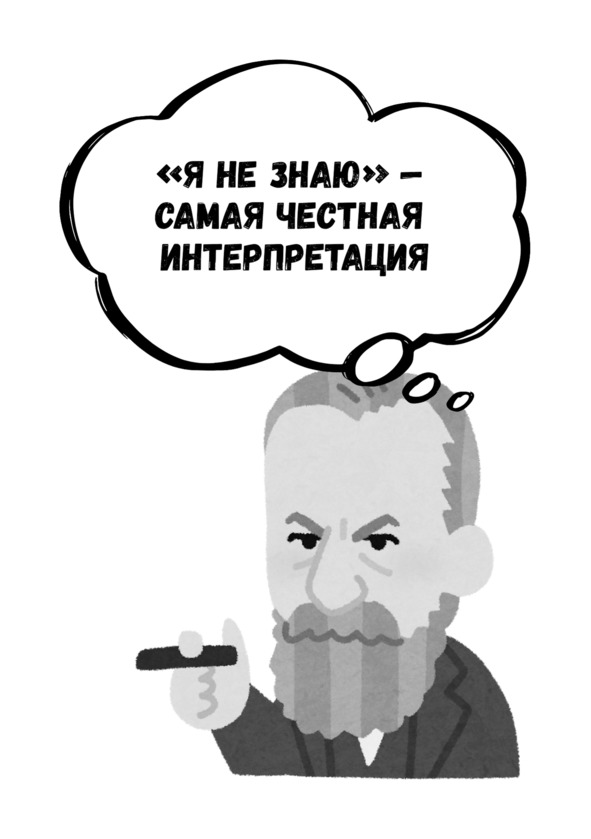
Кризис «первого разрыва»: прекращение анализа с пациентом
Первое завершение анализа с пациентом – особенно, если оно не по инициативе аналитика – часто переживается как личная неудача.
Даже если пациент уходит «успешно», аналитик может испытывать:
– чувство утраты;
– вину («Я не сделал достаточно»);
– тревогу («А вдруг он сломается без меня?»);
– пустоту («Кабинет пуст, а я – никому не нужен»).
Этот кризис связан с переживанием депрессивной позиции по Кляйн: осознание, что объект (пациент) существует независимо, и что аналитик не может «владеть» процессом. Это момент, когда аналитик отказывается от иллюзии всесилия.
Ресурс: анализ не принадлежит аналитику.
Он – пространство для пациента.
И его окончание – не провал, а свидетельство того, что пациент обрёл автономию.
Супервизорская задача: помочь аналитику пережить утрату, не превращая её в вину, и увидеть в завершении подтверждение эффективности.
Аналитик больше не может считать процесс «своим». Он больше не может быть «создателем» изменений. Он – свидетель, сопровождающий, контейнер, который в какой-то момент должен освободиться.
Но этот переход болезнен. Он требует переживания скорби – не за умершего, а за ушедшего. Скорби, которую нельзя озвучить публично, которую нельзя оплакать. Скорби, которую аналитик должен переварить в себе, не перенося её на следующего пациента.
Интересно, что этот кризис особенно остр у тех, кто сам недавно завершил личный анализ. У них ещё свежа память о собственном уходе – о чувстве благодарности, вины, свободы, страха. И когда они сами становятся теми, кого оставляют, они проживают этот разрыв дважды: как аналитик и как бывший анализанд.
Некоторые аналитики пишут прощальное письмо (которое не отправляют), ведут дневник, делают заметку в календаре. Это – не сентиментальность, а символическое признание окончания.
Когда аналитик впервые переживает такой разрыв – и остаётся в профессии, он делает шаг из фантазии всесилия в пространство подлинной встречи. Где любовь – не привязанность, а свобода. Где помощь – не удержание, а отпускание.

Кризисы, связанные с переносом и контрпереносом
Перегрузка контрпереносом – когда аналитик длительное время работает с тяжёлыми случаями (психоз, травма, нарциссические расстройства), он может испытывать накопительную травму.
Это проявляется в:
– эмоциональном истощении;
– соматизации;
– снижении способности к символизации;
– ощущении «загрязнённости».
Бион назвал это «инвазией безформенного» – пациент «вливает» в аналитика то, что не может вместить сам. Если аналитик не имеет дополнительный контейнер (супервизора, аналитика, группы), он может распадаться под давлением.
«Слияние» с пациентом, потеря границ особенно характерно для работы с пограничными состояниями.
Аналитик может начать чувствовать:
– мысли пациента как свои;
– его тревогу как свою;
– его желания – как свои.
Это состояние не является «эмпатией», а – нарушением границ. Оно опасно как для аналитика, так и для пациента.
Перенос на аналитика как фигуру власти и «хранителя истины» – когда аналитик начинает воспринимать себя как носителя истины, он попадает в ловушку нарциссического переноса – своего или пациента.
Это ведёт к:
– техницизму;
– интерпретационной агрессии,
– отстранённости,
– потере живого контакта.
Ресурс: второй контейнер.
Такой кризис требует глубокой рефлексии, часто – повторного анализа и смены супервизора.
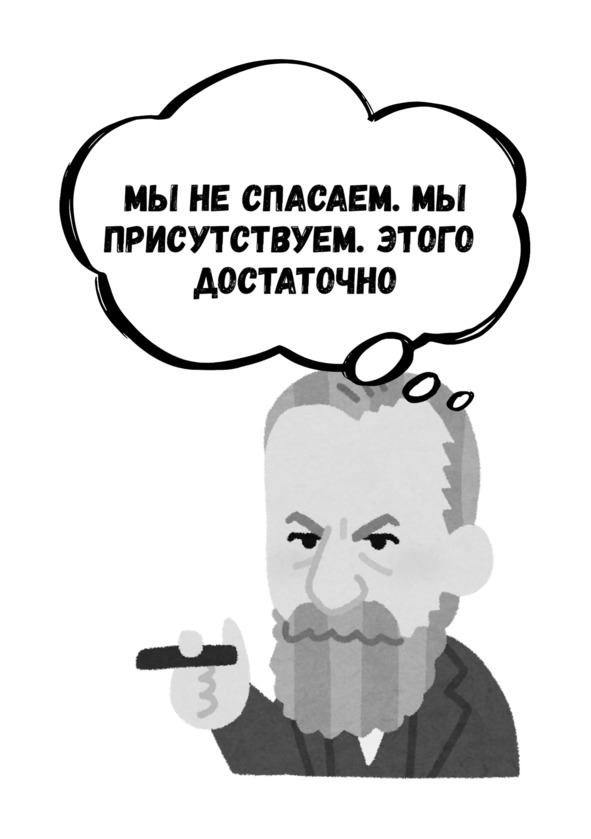
Кризис середины карьеры: переосмысление практики, утрата энтузизма
Через 10—15 лет практики многие аналитики сталкиваются с внутренним утомлением. Они видят одни и те же сцены: травмы детства, насилие, одиночество, поиск любви.
Возникает вопрос: «А меняется ли что-нибудь на самом деле? Или мы просто кружимся в одной и той же боли?».
Этот кризис – экзистенциальный вызов.
Он связан с усталостью от повторения, с ощущением бессмысленности, с тоской по «большему» – по социальному воздействию и взаимодействию, по творчеству, по выходу за пределы кабинета.
Именно в этом кризисе возможен второй виток развития.
Аналитик может:
– начать преподавать и писать/ публиковать;
– углубиться в исследование;
– заняться общественной работой;
– пересмотреть свою технику;
– открыться новым теоретическим влияниям.
Опытный аналитик, переживающий кризис рутины, начинает вести группу для коллег по обсуждению «непонятных» случаев. Это оживляет его клиническое любопытство и возвращает чувство сообщества.
Ещё до начала своей активной практики и в её первые годы я заметила повторяющийся феномен.
Когда более опытные коллеги представляли результаты своей работы – на конференциях, в супервизии, в публикациях – становилось очевидно: наибольшие трудности у них возникали при рассказе об особенно сложных случаях.
Это проявлялось не только в логических сбоях, в бесконечных уточнениях, в попытках «договорить» то, что уже было сказано, но и в эмоциональной вовлечённости, которая нарушала границы научного доклада.
Коллега как будто застревал в этом клинической случае – пересказывал его снова и снова, возвращался к нему через месяцы или даже годы, включал в каждый новый доклад, даже если тема была другой.
Становилось ясно, что перед нами – незавершённый внутренний процесс, непрожитый кризис.
Со временем заметила закономерность: каждый из таких коллег находился на рубеже 10—12 лет активной практики – на пороге того, что можно назвать началом середины карьеры.
Именно в этот период формируется «профессиональный нимб» – не буквальный, конечно, а метафорический.
Это – ощущение устойчивости, компетентности, внутреннего порядка. Аналитик уже прошёл через импостер-синдром, освоил технику, наладил практику, стал преподавать, выступать, писать. Он чувствует: «Я знаю, что делаю. Я – опытный».
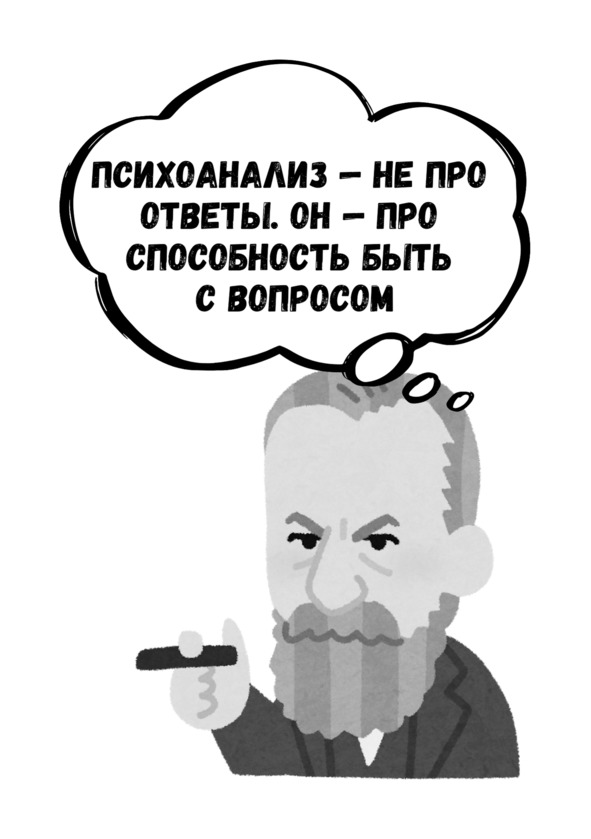
Это не высокомерие. Это – закономерный этап интеграции, когда хаос первых лет уступает место системе.
Но в тот же момент аналитик становится похожим на того самого водителя, который на третьем-четвертом году вождения, утвердившись в своей «опытности», тут же попадает в аварию. Как будто сама жизнь «ставит на место», подрезая крылья, которые существуют только в воображении водителя.
И именно в этот момент, словно по закону драматургии, приходит пациент, который «переломит через колено». Когда я сама подошла к рубежу десятилетия практики, то… и ко мне пришел «такой» пациент, и я называла его «переломным клиентом».
Не потому что он «особенно тяжёлый», агрессивный или психотический. Он вообще может быть «не тяжелым». А потому что встречает аналитика там, где он перестал быть уязвимым.
«Переломный клиент» приходит не для того, чтобы быть «проанализированным», а чтобы показать аналитику его собственную иллюзию.
И он делает это с поразительной точностью и бесцеремонно.
И в этот момент «нимб» падает. Иногда с грохотом, а иногда -с тихим звоном – как стекло, треснувшее от перегрева и под возглас аналитика: «Так вот оно как на самом деле!».
«Переломный клиент» – высвобожденный архетип, пришедший не во вред, а во спасение.
Он приходит не для того, чтобы разрушить (хотя известны случаи, когда после «переломного клиента» психоаналитик покидал профессию или уходил в длительное «личное пике»), а чтобы разрушить иллюзию стабильности, чтобы аналитик снова стал ищущим, а не «знающим».
И, может быть, именно в этом и есть подлинная мудрость кризиса середины карьеры – снова научиться «ничего не понимать».
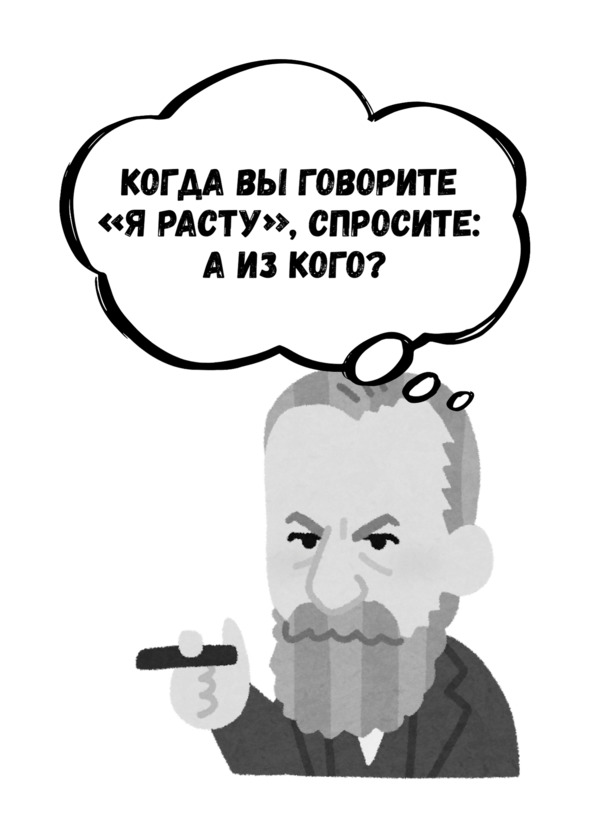
Кризис аналитика-матери/отца: профессиональная идентичность в контексте родительства
Профессиональный путь психоаналитика редко развивается в вакууме, отделённый от личной жизни. Напротив, он глубоко интегрирован в биографический контекст, включая ключевые жизненные события – в том числе рождение ребёнка и вступление в роль родителя.
Однако в профессиональной литературе и образовательных программах эта трансформация остаётся на периферии внимания.
Кризис «аналитика-матери/отца» – один из немногих нормативных кризисов, связанных не с этапом профессионального становления, а с этапом жизненного цикла, – систематически недооценивается, хотя затрагивает фундаментальные аспекты идентичности, времени, границ и этики.
Этот кризис проявляется не как внезапная травма, а как постепенное накопление напряжения между двумя системами требований: с одной стороны – неотложность материнства/отцовства, с другой – неукоснительность терапевтического контракта.
Аналитик сталкивается с невозможностью совместить непредсказуемость потребностей ребёнка – кормление, болезни, ночные пробуждения – с жёстким графиком сессий, требующим абсолютной пунктуальности и внутренней готовности.