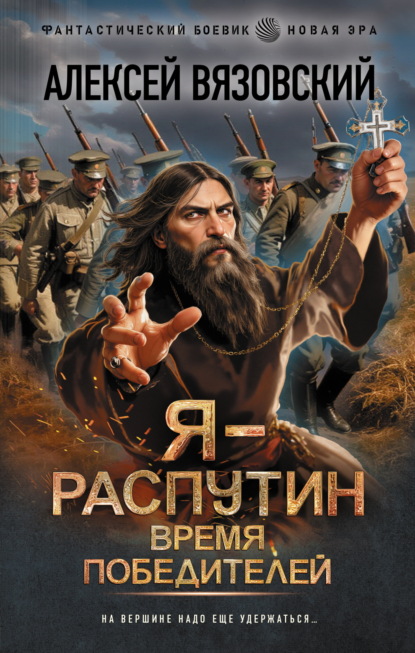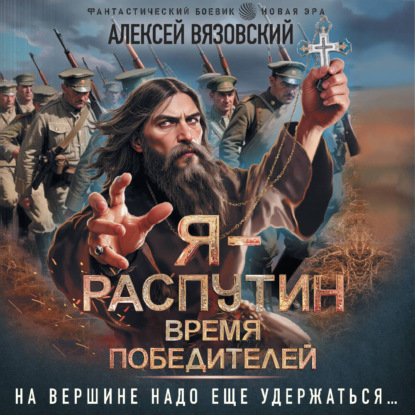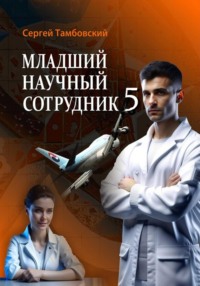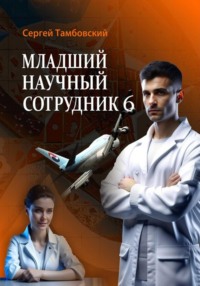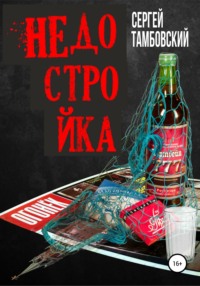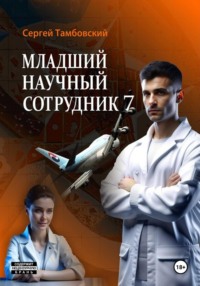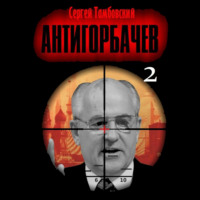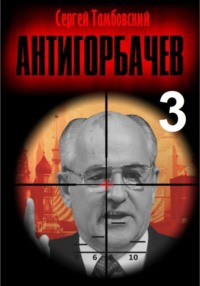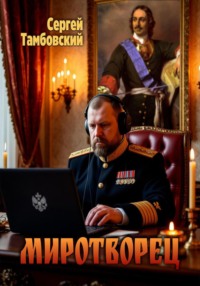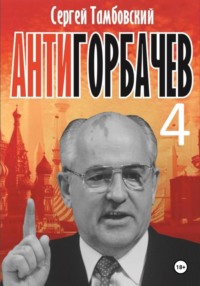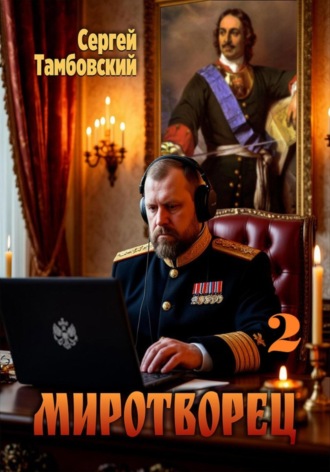
Полная версия
Миротворец-2
– Очень своевременное обращение, – царь поставил стакан с минералкой на трибуну, встал и продолжил, – лично обещаю вам, господин Фазер, рассмотреть все ваши просьбы в правительстве страны в ближайшее время.
Одновременно он открыл свой блокнот и сделал там соответствующую пометку.
– У вас все, господин Фазер? Ну, тогда слово переходит к следующему, – и он показал рукой на другого представителя общественности, сидевшего в том же первом ряду, но с противоположного края.
– Ян Сибелиус, – представился тот, – композитор.
– Рад видеть представителя творческой интеллигенции, – поприветствовал его царь, – излагайте, пожалуйста, свои вопросы.
– Хотел бы сказать пару слов по поводу финского языка, государь, – вежливо продолжил тот, – ваш дед, император Александр 1й, как известно, даровал нашему языку статус второго государственного, однако, на мой взгляд… и многие в нашей стране наверняка присоединятся к моему мнению… дела с нашим родным языком обстоят далеко не так, как хотелось бы…
– А что именно не так с финским языком? – нахмурил брови царь.
– Нет, в целом все нормально, – сразу сдал назад композитор, – но отдельные детали хотелось бы, так сказать, отполировать. Например, возьмем начальную школу – русский язык сейчас там преподают по 5-6 часов в неделю, а финский только 1-2. Или взять прессу, на нашем родном языке издается всего две газеты в столице и одна в Турку… тогда как на русском их полтора десятка в стране. Да что с русским сравнивать, даже на шведском языке больше печатной продукции издают. И в театре та же картина – все почему-то ходят на спектакли, где говорят исключительно по-русски…
– Но это, наверно, все же проблема финских театров, что в них мало ходят, – флегматично ответил Александр, – наверно, надо ставить актуальные пьесы и занимать в них талантливых актеров, тогда будут ходить и к вам… возьмите хоть Большой театр в Москве, слышали про него?
– Ну кто же не слышал про Большой театр, – немного смешался Сибелиус.
– Там аншлаги, насколько я знаю, вообще на все спектакли, независимо от языка, на котором они исполняются – хоть на итальянском, хоть на немецком.
– Тут, скорее всего, вы правы, – сокрушенно покачал головой композитор, – но относительно школ и газет все же хотелось бы увидеть какое-то решение проблем.
– Хорошо, господин Сибелиус, – кивнул царь, – я записал ваше пожелание – обсудим в ближайшее время. Так, еще есть желающие высказаться?
Руку поднял некто в чесучовом сюртуке из третьего ряда, Александр сделал ему приглашающий жест.
– Меня зовут Ирье Ирье-Коскинен, – сказал тот, поднявшись со своего места.
– Вот как, – ухмыльнулся царь, – имя и фамилия почти одинаковые?
– Да, так сложилось, – не стал тот углубляться в подробности, – я начальник духовной экспедиции сената и основатель партии старофиннов…
– Вот как, – озадачился Александр, – а что, есть и младофинны?
– Конечно, государь, – быстро отвечал Коскинен, – мы придерживаемся консервативных взглядов на вещи, а младофинны в противовес нам фиксируются на демократических принципах.
– Понятно, это примерно как в Британии виги и тори, одни за аристократию, другие за буржуазию…
– Да, почти так… мой вопрос связан с предстоящими выборами в Государственную Думу…
– Слушаю вас, господин Ирье, с большим вниманием, – царь даже встал и снова зашел за трибуну.
– Так вот, относительно нашей фракции старофиннов и вообще финского сената, – тут же продолжил Коскинен, – грядут выборы в Госдуму, а по регламенту в Финляндии один депутат выбирается от большего числа избирателей, чем в той же соседней Карелии. Мы, если честно, не понимаем такой дискриминации. К тому же можно добавить и то, что нет никаких намеков на дублирование всех будущих документов Думы на языки национальных окраин.
– Про избирательные квоты вопрос актуальный, – кивнул Александр, – я сразу же по возвращению в Петербург передам его в избирательную комиссию. А вот с той частью вашего выступления, которая касается переводов, я готов подискутировать…
– Давайте подискутируем, – лихо поднял перчатку Коскинен.
– Вы знаете, сколько народностей со своими языками проживает в России?
– Если честно, то нет…
– Вот здесь присутствует полномочный представитель правительства по вопросам национальностей, он даст справку, – Александр протянул руку в сторону безмятежно смотревшего в окно Георгия.
Николай толкнул его в бок, тот понял свою оплошность и тут же встал.
– Да, конечно, готов выдать необходимые справки в полном объеме, – быстро проговорил он, – всего на данный момент в Российской империи насчитывается 152 народности, но свои отдельные языки есть только у 113 из них. Самые большие ветви это великороссы, малороссы и белороссы, на них приходится 69% всего населения.
– На все языки народов империи предлагаете переводить документы, господин Коскинен? – ехидно осведомился царь, – на 113 штук?
– Ну что вы, государь, – тут же открестился тот, – только на основные… к ним, кроме русского вполне можно отнести финский и польский.
– Боюсь, среднеазиаты и евреи с вами не согласятся… – задумчиво ответил Александр, – но хорошо, я понял вашу мысль и постараюсь ответить что-то внятное до конца этого года…
Остальные вопросы были совсем уж мелкими и незначительными, поэтому собрание свернули через полчаса после въедливых замечаний Коскинена. А вечером царская семья погрузилась на Штандарт и отчалила в сторону Кронштадта.
митт
Сельское хозяйство
А после небольшого отдыха Александр засучил рукава и принялся за извечную российскую проблему, третью после дураков и дорог. Он собрал большое совещание в Зимнем дворце по вопросам реформирования и интенсификации сельского хозяйства. Главным докладчиком там был назначен Великий князь Николай, успевший между делом сплавать в Американские Штаты и получить некоторый опыт в этой сфере народного хозяйства.
– Итак, господа, – начал Николай, немного волнуясь, все же это было чуть ли не первое его выступление перед широкой аудиторией, – что мы имеем на данный момент в деревне…
И он показал указкой на большую схему, висящую на стене – это ему рисовала целая команда художников под руководством самого Врубеля.
– Количество лиц, занятых в сельском хозяйстве на текущий момент насчитывает 115 миллионов, из них 72 миллиона находятся в Европейской части страны, 21 в Средней Азии, 12 в Закавказских губерниях и только 10 приходится на Сибирь и Дальний Восток. Если более подробно рассмотреть Европейскую часть, то и здесь мы наблюдаем неравномерность размещения производительных сил…
Царь здесь с восхищением показал ему большой палец – экие умные слова выучил сынок, кто бы мог подумать.
– Максимум крестьянского населения здесь наблюдается на землях южнее линии Симбирск-Тамбов-Воронеж-Чернигов… Привисленские губернии и Финляндию мы пока оставляем за скобками… север же населен и обрабатывается в разы хуже. Теперь перейдем к объемам товарного производства сельского хозяйства, – предложил Николай и специально обученные люди быстро повесили на стенку новый плакат.
– Здесь мы видим разбивку сельскохозяйственной продукции по видам… как нетрудно догадаться, львиную долю тут занимает зерно, это более 80% от общих объемов. Внутри этой категории самую высокую долю имеет, естественно, пшеница, за ней идут ячмень, рожь и просо. Также имеют место посадки технических культур, как то – картофель, лён, бахчевые и подсолнечник, на них приходится около 20% площадей. Теперь про урожайность и экспорт…
На стене появился третий плакат, самый большой по сравнению с предыдущими.
– Общие земельные площади в России огромные, почти 2 миллиарда десятин, но пригодных для обработки уже меньше в разы – всего 350 миллионов десятин. И даже с этими 350 миллионами не все в порядке, из них только 100 миллионов можно отнести к землям, благоприятствующим к выращиванию на них сельхозкультур. Большая часть их расположена на юге Европейской части и в Поволжье, а также есть отдельные островки благополучия в Сибири и в Средней Азии. Во многом в связи с этим средняя урожайность в стране колеблется от 39 пудов с десятины для крестьянских владений до 47 для частников. Это очень мало, очень, в Соединенных Штатах, например, урожайность втрое выше, а в Германии впятеро. Что же касается экспорта, то он у нас неплохой, от 500 до 600 миллионов пудов, выручка от него составляет примерно половину всех наших доходов от экспорта, но при правильном развитии нашего сельского хозяйства эти цифры можно как минимум удвоить и по объемам, и по соотношению к общим доходам государства.
Николай оглядел аудиторию и понял, что доходят его слова далеко не до всех… надо поменять стиль изложения, подумал он.
– Я, наверно, уже утомил общество многочисленными цифрами и специальными терминами, – Николай сел на край стола, стоявшего рядом с плакатами, и перешел на более понятный язык, – короче говоря, господа, дело обстоит таким образом – надо, во-первых, поменять общественную структуру нашей деревни… ну или хотя бы начать этот процесс, община это не то, что требуется для развития, во-вторых, хорошо бы сменить экстенсивный характер развития нашей деревни на интенсивный… ну или тоже начать это делать, грубо говоря – поднять урожайность основных культур, а в-третьих, надо перенимать опыт передовых стран в сельском хозяйстве, на данный момент это Германия, Соединенные Штаты, ну и Францию с Голландией тоже можно добавить к этому перечню.
– Мы с большим интересом ознакомились с увлекательным докладом Николая Александровича, – встал со своего места император, – но я хотел бы добавить несколько замечаний по теме, если позволите…
Естественно, что никаких позволений действующему царю никто выдавать не стал, зал просто обратился в слух, тогда он продолжил.
– Все это верно, все это логически обосновано, но не будем забывать, господа, что мы живем в России, а здесь логика часто отступает на второй план… если не на десятый. Поэтому хотелось бы немного соотнести хороший, без преувеличений это отмечу, план великого князя, с реалиями нашей жизни…
Из зала по-прежнему не раздалось ни единого звука, но Николай позволил себе вольность немного подискутировать с родным отцом.
– Что же в моем плане нереального, Александр Александрович? – спросил он.
– Германию со Штатами мы точно не обойдем ни в ближайшем, ни в каком-либо обозримом будущем, – ответил царь, – но, конечно, поставить такую цель можно. Я вот что хочу сказать…
Александр сделал паузу на пару секунд, а потом закончил свою мысль.
– Для интенсивного развития нашего сельского хозяйства нужны три вещи… даже четыре – запоминайте или записывайте, – строго посмотрел он в зал, и действительно многие там открыли тетради и блокноты и вперили преданный взгляд в императора, – итак, первое… сельская община это хорошая форма, но немного устарелая, надо бы ее реформировать, в этом Великий князь совершенно прав… как именно, подлежит обсуждению.
Царь заложил руки за спину и начал прогуливаться вдоль сцены.
– Второе – нужны качественные семена, которые нам даст селекция – знаете такого Ивана Мичурина? – обратил он свой взор на Николая.
– Что-то слышал о нем, – ответил тот, – живет и работает где-то в Тамбовской губернии.
– Именно, в городке под названием Козлов… и не надо смеяться, даже в таких городках можно найти настоящих самородков – надо привлечь его к выращиванию наиболее продуктивных сортов зерна, в первую очередь пшеницы. Зарубежный опыт селекции нам также пригодится. Третье – чтобы повысить урожайность, нужны удобрения… и не те, что получаются естественным путем от коров и быков, а производимые промышленным способом, например нитрофоска и аммофоска – это будет новая отрасль в нашей промышленности, этим надо заняться немедленно.
– А четвертое что? – задал смелый вопрос Николай.
– Четвертое это средства механизации посевной и уборочной – пахать на лошадях и волах это каменный век, нужны современный средства обработки земли. И это тоже будет еще одна новая отрасль…
– Я все записал, государь, – поднял глаза на отца Николай, – будем заниматься этими вопросами.
– Да, – потер лоб Александр, – еще одно дело забыл – нужны флагманы, так сказать, в этой отрасли, передовые предприятия, на которые все будут равняться… лучше всего их организовать в местах, где условия для сельского хозяйства более благоприятны, под Ростовом или Екатеринодаром… ну и парочку в Поволжье, например. И потом пропагандировать их успехи – в газетах, в кинематографе, ну и в устном творчестве тоже, если получится… я ясно выразился?
– Более чем, – кратко ответил сын, на этом совещание и закончилось.
А уже после того, как заседание кончилось и приглашенные разошлись, Николай все-таки задал отцу пару вопросов.
– Тема с образцовыми хозяйствами очень интересна, папа – как она тебе пришла в голову?
– Все просто, сынок, – ответил тот, – вот сам смотри, в армии есть гвардия, верно? Там служат лучшие воины, которые первыми идут в бой, если надо… а прочие воинские части равняются на гвардейцев. Вот на этот пример я и ориентировался…
– То есть эти хозяйства станут гвардейскими, только в деревне?
– Ну да… как-то так.
– А где конкретно, по-твоему, надо их организовывать?
– В местах с хорошими климатическими условиями – это Кубань, например, в какой-нибудь казачьей станице, и еще возле Саратова, где поволжские немцы живут. Да и в Херсонской губернии тоже можно. Люди там везде трудолюбивые живут, земли черноземные, а если им еще и сверху помочь, совсем все сладится. Кстати, когда приедут из Парижа братья Люмьеры, надо будет им выдать задание, чтобы сняли эти хозяйства, людей и как они работают. Пропаганда это дело очень важное.
– А вот ты еще упоминал про удобрения и средства механизации – с ними как?
– На первых порах никак, – ответил царь, – потому что нет их пока. Но в следующем сезоне, это 98 год будет, надеюсь, появятся и удобрения с тракторами – первые же партии отправятся в эти образцовые деревни, даю тебе свое царское слово.
– И еще одно кстати, – вспомнил Александр, – надо будет туда же пристегнуть и Михаила, чтобы организовал в образцовых хозяйствах учебные и медицинские части… уж если делать образец, так образцовый по всем пунктам.
ьор
ВМФ
А еще немного позже Александр озаботился состоянием и перспективами развития императорского морского флота. Он, как известно, в конце 19 века состоял из двух флотов, Балтийского и Черноморского, а также трех флотилий – Каспийской, Беломорской и Тихоокеанской. В те времена российское руководство ВМФ находилось под сильным влиянием доктрины американского адмирала Альфреда Мэхена, согласно которой все затраты на строительство мощного океанского флота окупятся сторицей из-за определяющей роли этого флота в потенциальных военных конфликтах будущих периодов.
В связи с этим в России действовала государственная кораблестроительная программа, денег на это дело не жалели, и только на одном Балтфлоте к концу 19 века значилось около 250 военных кораблей различного класса. И строительство новых образцов этой техники не прекращалось ни на минуту.
Главной площадкой для выпуска новых кораблей служила верфь «Новое Адмиралтейство» на левом берегу Невы, ее же по старинке называли Галерным островком. Туда и отправился Александр, прихватив с собой морского министра Тыртова и сына Георгия, тот как-никак тоже был кадровым морским офицером.
– А сколько кораблей у нас сейчас находятся на этапе строительства? – спросил по дороге царь у Тыртова.
– Двенадцать, государь, – без запинки ответил тот, – из них пять броненосцев и четыре крейсера, остальные вспомогательного типа.
– А в строю сколько броненосцев и крейсеров?
– Двенадцать броненосцев и десять крейсеров, – пояснил Тыртов.
– А скажите, адмирал, с кем мы собираемся воевать таким количеством боевой техники? Которая стоит огромных денег?
– Ну как же, ваше величество… – немного растерялся адмирал, – с теми, кто нападет на нас… самый большой флот сейчас у Британии, за ней идут Германия и Франция, очень быстро подтягиваются к лидерам Япония и Соединенные Штаты.
– И с кем же из них мы будем воевать – с Британией или с Францией?
– Государь, это уже не моя компетенция, с кем воевать – отчеканил адмирал, – воевать буду с тем, кого определит высшее руководство…
– Логично, да… – немного сбавил тон царь и тут же повернулся к Георгию, – а ты вот, как флотский офицер, скажешь, с кем мы можем воевать на море в ближайшем будущем?
– Так вот сразу, – замялся тот, – хорошо, выскажу чисто свое личное мнение – воевать нам скорее всего придется или с турками, там остались непроясненные вопросы после войны на Шипке, или с японцами, они очень хорошо вооружаются в последнее время, к тому же имеют претензии к политике России в Китае и Корее…
– Так вот, – продолжил Александр, выслушав собеседников, – на мой скромный взгляд огромные линейные корабли не имеют никаких перспектив даже в ближайшем будущем, это первое…
– А что тогда будет иметь перспективу? – спросил озадаченный адмирал.
– Сухопутные части, – любезно улыбнулся ему царь, – причем механизированные. А на море надо развивать подводный флот, за ним будущее. И еще одно замечание – броненосцы, которые уже построили, надо убирать из Финского залива…
– Почему? – уточнил Георгий.
– Потому что это натуральная мышеловка, наш залив, – пояснил Александр, – перегораживается минами и подводными сетями за неделю. И никуда потом броненосцы отсюда не денутся.
– А куда надо перемещать корабли из Финского залива? – спросил адмирал, – в Севастополь?
– Нет, не в Севастополь… черноморский флот тоже выполняет чисто локальные задачи, через Босфор его никто не пропустит. Надо создавать новую базу флота, на Кольском полуострове – там круглогодично незамерзающее море. Ну и укреплять тихоокеанскую эскадру, Владивосток и еще, возможно, Петропавловск, который на Камчатке. И частично можно дооснастить нашу базу в Либаве. Плюс остров Рюген… ну это в отдаленной перспективе, если получится договориться с немцами. Такие вот мои мысли…
– А с недостроенными кораблями что будем делать?
– Достраивать, конечно, – вздохнул царь, – те, которые больше, чем наполовину закончены. Остальные заморозить… флот отбирает у страны огромные деньги, а это неправильно, есть гораздо более нужные направления, где можно использовать эти средства. Флот должен быть экономным, верно?
– Аааа… – начал формулировать еще один вопрос Георгий, но царь его опередил.
– Что мы будем делать с уже построенными, ты про это хотел спросить? Пусть стоят в строю, чего уж там… а часть можно сдавать в аренду нуждающимся – первыми на очереди будут испанцы, у них намечается небольшая войнушка на море с американцами, а испанский флот очень уж древний и ни на что не годный, если честно. Петропавловск и Сисой им вполне сгодились бы.
А экипаж тем временем подкатил к воротам, на которых красивым полукругом было написано «Новое адмиралтейство». Гостей у ворот встречал действующий директор Павел Христофорович Гессен.
– Огромные у вас тут площади, – заметил царь, осмотревшись по сторонам, – ну покажите нам свои владения, полюбуемся на процессы постройки кораблей.
– Да, – тут же согласился Гессен, – площади действительно большие… это предприятие заложил еще Петр 1й в 1704 году, с тех пор оно только расширялось и укреплялось.
– Что у вас сейчас строится? – перешел на деловые рельсы Александр, – покажите…
Они вошли в ворота огромного эллинга, где внутри виднелись очертания будущего корабля.
– Вот, изволите видеть – в начале года заложили, – тут же начал экскурсию директор, – это будет броненосный крейсер под условным названием «Аврора», это пилотный проект новой серии крейсеров «Диана» – два других однотипных корабля, «Паллада» и «Диана» готовятся запуску в постройку…
– Так-так-так, – озадаченно почесал в затылке Александр, – значит, Аврора, говорите… почему, кстати, Аврора? Причем тут богиня утренней зари?
– Назван в честь одноименного парусного фрегата, – быстро ответил Гессен, – он прославился при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны…
– Аааа… – протянул царь, – ну тогда ладно. Итак, что за Аврора – расскажите. Но сначала о стоимости – почем нам обойдется такая машина…
– Хм… – на секунду замешкался директор, – сейчас вспомню… точных цифр не назову, но что-то в районе 6 миллионов рублей, может быть шесть с половиной.
– Однако… – одновременно высказались таким образом царь и его сын, а продолжил Георгий, – это ведь 5 миллионов долларов. Большие деньги…
– Что делать, Георгий Александрович, – сокрушенно взмахнул руками директор, – военно-морская техника самая дорогая из всех… так я продолжу? – посмотрел он на гостей и, увидев кивок Александра, начал рассказ про Аврору.
– Значит, это крейсер первого ранга, заказан морским министерством в прошлом году, всего, как я уже говорил, в серии должно быть построено три корабля, Аврора первая в этом списке. Тактико-технические данные ее такие – водоизмещение 6 тысяч тонн, движитель на три винта, максимальная скорость хода 19 узлов… бронирование палубы 60 мм, рубки 150 мм. Вооружение – артиллерия 8 стволов по 152 мм и 24 ствола по 75 мм, а также минно-торпедные аппараты, один надводный и два подводных. Прототипом этой серии стал английский крейсер Тэлбот…
– Хорошо, – царь прошелся вдоль стапелей, посмотрел на снующих кораблестроителей и задал следующий вопрос, – а двигатели кто делает, тоже ваша верфь?
– Ну что вы, государь, – открестился Гессен, – двигатели будут построены в следующем году на Франко-русском заводе… это будут три вертикальные машины тройного расширения с 24 котлами системы Бельвиля, – пробарабанил много технических терминов директор.
– Понятно-понятно… – пробормотал Александр, закончив обход вокруг строящейся Авроры, – а что вы говорите, с двумя оставшимися судами этого класса?
– Палладу заложат в начале следующего года, а Диану в конце… да, а Аврору спустят на воду буквально через месяц, в конце ноября.
– Ладно, показывайте, что еще у вас сейчас строится, – приказал царь, и они вчетвером передвинулись в соседний эллинг.
– Вот, изволите видеть, – директор сделал широкий взмах в сторону корабля с еще более грандиозными контурами, – броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», спуск на воду также состоится в ближайшее время.
– Этот агрегат сколько стоит? – продолжил хозяйственно-экономическую тему Георгий.
– Восемь с половиной миллионов, – ответил Гессен, – сами понимаете, тут одного металла надо на 25% больше, чем на крейсер… не говоря уже обо всем остальном.
– Вся доходная часть российского бюджета, – дал справку Георгий, – составила в прошлом году миллиард триста миллионов…
– То есть этот вот броненосец забирает около одного процента из бюджета страны, – провел небольшие подсчеты в уме Александр.
– Государь, – вступил в беседу молчавший до этого морской министр, – что вы хотите – кораблестроение это вообще очень затратное производство, не говоря уже о военном кораблестроении…
– Я хочу, Павел Петрович, – тут же ответил ему царь, – чтобы наше военное кораблестроение держалось каких-то рамок при заказах новой техники… а такое вот бесконтрольное расходование народных средств надо прекращать… ну или хотя бы приводить в соответствие с реалиями. Павел Христофорович, есть у вас еще что-то строящееся?
– Есть еще три однотипных эскадренных броненосца, Полтава, Севастополь и Петропавловск, но все они уже спущены на воду и достраиваются вне нашего завода.
– А у соседей как дела? – задал нетипичный вопрос царь.
– У Балтийского завода? – догадался директор, – там, насколько я знаю, сейчас строится только один большой корабль, броненосец Пересвет, но в ближайшей перспективе планируется запуск большой партии броненосцев нового класса, серия будет называться Бородино… на нашем заводе, кстати, будут построены два из них.
– Опять затраты, опять расходы, – пробормотал император, – надо бы обсудить всю нашу морскую программу более тщательным образом – вы не находите, Павел Петрович? – обратился он к министру.
– Готов обсудить все вопросы в рабочем порядке, – отрапортовал тот.
– В рабочем не надо… – задумался в очередной раз Александр, – а вот в долговременном разрезе было бы неплохо это сделать… да, для Авроры я придумал применение, расскажу все на том же совещании.
ддлоо
Испания
Александр с Марией позвали сына Георгия на семейный совет, он прошел в узком кругу в одной из гостиных второго этажа Зимнего дворца.
– Вот что, драгоценный мой сын, – начал беседу царь, по своей традиции прогуливаясь вдоль ряда окон, выходящих на Неву и Петропавловскую крепость, – ты наверно и без меня хорошо знаешь об обязанностях лиц императорско-королевского сословия…