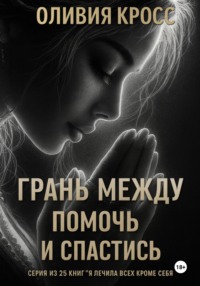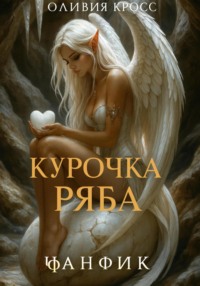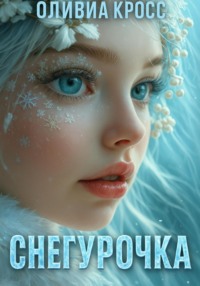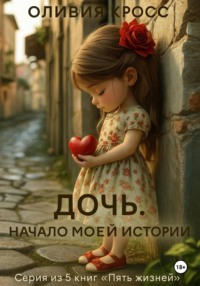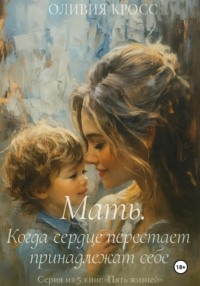Полная версия
Нелюбимое детство

Оливия Кросс
Нелюбимое детство
Глава 1
Я долго не могла поверить, что оно действительно было – моё детство. Оно пряталось, как больной зуб, который научилась не трогать языком. Жила дальше. Работала. Улыбалась. Даже любила, наверное. Но стоило кому-то сказать «мама», как внутри поднималась волна, не боль, нет, – что-то вроде холода, обволакивающего изнутри. Ни слёз, ни обид, ни нужных слов. Только внутреннее знание: туда возвращаться нельзя.
Я не была брошенной. У меня был дом, тетрадки в клетку, зимняя куртка и чай с вареньем. Но я росла в пространстве, где любовь была чем-то… вне меня. Не поливом, а прогнозом погоды: может быть, случится. Может быть, нет. Никто не бил. И это самое страшное. Потому что не к чему прицепиться. Не за что упрекнуть. Всё вроде было. А тепла не было.
Мама была уставшей. Такой уставшей, что любое моё движение – крик, радость, вопрос – вызывало в ней раздражение, как будто я вторгалась в её право на тишину. Папа был добрым, но отстранённым. Вечный участник второго плана. Всё, что я запомнила – его спина у телевизора и запах табака на подушке. Он не был плохим. Он просто был… другим. Где-то далеко, в своём мире.
Я научилась быть удобной. Тихой. Угадать, что нужно сказать, чтобы не вызвать недовольства. Не быть «слишком». Не просить лишнего. Не плакать слишком громко. Не смеяться, если это мешает. Я училась выживать в мире, где никто не хотел быть злым – просто никому не было до меня дела.
Самое больное – не ругань. А безразличие. Когда тебя не замечают. Когда смотришь в мамины глаза – и не находишь в них себя. Только усталость. Только досаду. Только желание, чтобы ты быстрее ушла.
И я ушла. В книги. В мечты. В вымышленные дома, где мамы гладят по голове, где можно не бояться обнять, где можно что-то сказать не по сценарию – и тебя всё равно любят. Я пряталась в вымышленных мирах, потому что реальный был слишком колючим.
Но детство – это не то, что заканчивается в 12. Оно как вода, впитывается в кожу, и потом, даже через тридцать лет, ты чувствуешь: я по-прежнему жду, чтобы меня заметили. По-прежнему думаю, что любовь нужно заслужить. Что если я замолчу, подожду, угожу – тогда, может быть, кто-то останется. Не уйдёт.
И самое трудное – это признать, что в тебе живёт девочка, которую не любили. Не потому что была плохая. А потому что вокруг были взрослые, не способные любить. Со своими травмами. Со своей усталостью. Своей глухотой. И эта девочка – не исчезла. Она тихо сидит внутри, не мешает, но каждую ночь ложится с тобой в постель и просыпается вместе с тобой утром. Она – твоя.
Я долго не могла её увидеть. Стыдилась. Думала: «Ну и что? У всех так. Это не повод ныть». Превращала её в силу. Училась быть сильной. Независимой. Самой себе всё: и мама, и стена, и броня. Но в глубине всегда оставался тонкий голос: «А можно – просто чтобы любили?» Без заслуг. Без борьбы. Без этой вечной гонки за вниманием.
Когда я впервые заглянула туда – честно, не убегая, не придумывая оправданий, – мне стало страшно. Там было пусто. Не было ярких травм, не было острых сцен. Только тишина. Холодная, плотная тишина. И эта тишина оказалась страшнее крика.
Ты растёшь в доме, где нет слов «я горжусь тобой», «я тебя люблю», «я рядом». Зато есть: «Что опять?», «Отстань», «Ну ты и дурочка». И эти фразы потом живут в твоей голове, как внутренний редактор. Когда делаешь что-то новое – он шепчет: «Ты опять позоришься». Когда хочешь попросить о поддержке – он напоминает: «Ты никому не нужна». Когда любишь – он боится: «Скоро уйдут».
Я много лет училась говорить с этой девочкой. Не громко. Не сверху. Не как взрослая с инфантильной. А как равная. Та, что наконец увидела: всё, чего тебе не дали, ты можешь дать себе сама. Не сразу. Не идеально. Но можешь.
Иногда я покупаю ей мороженое. Настоящее. Шоколадное, как в детстве. Иногда лежу под пледом и просто глажу себя по руке – не от невроза, а от нежности. Иногда пишу письма. Короткие. Без пафоса. «Я вижу тебя. Прости, что не замечала раньше. Теперь я рядом». И это работает. Не как магия. А как практика любви. Тихой, настойчивой, неживописной.
Потому что раны детства не требуют грандиозного исцеления. Им нужно – быть увиденными. Услышанными. Им нужно, чтобы ты осталась, когда снова темно.
Иногда мне снится дом. Он похож на мой, но в нём тепло. В этом сне мама не улыбается – но она садится рядом. Просто сидит. Не гонит. Не стонет. Просто остаётся. И я просыпаюсь с комом в горле, но уже без страха. Потому что понимаю: даже если в реальности этого не было, внутри меня теперь есть то, что может это дать.
Любовь – не то, что мы получаем. Это то, что учимся выращивать.
И если ты читаешь это, и внутри тебя живёт такая же девочка – знай: ты не одна.
И то, что с тобой произошло, не делает тебя недостойной. Оно просто объясняет, почему тебе до сих пор бывает так больно.
Но ты уже выросла.
И теперь можешь быть той, кто останется.
Кто погладит. Кто скажет: «Ты – есть. И я рада, что ты – есть».
Этим всё и начинается.
Глава 2. Когда тебя не выбирали
Есть боль, у которой нет события. Нет даты, когда всё надломилось. Нет фотографий, по которым можно сказать: вот она, травма. Есть просто жизнь – такая, как была. Рядом были взрослые, но не было ощущения, что тебя выбрали. Что именно ты – желанная, любимая, важная. Не из-за оценок, достижений, поведения. Просто – потому что ты есть.
Когда тебя не выбирают, ты всю жизнь стараешься заслужить то, что другим достаётся просто так. Ты сравниваешь себя с теми, кого любили громко, явно, без стыда. И думаешь: наверное, со мной что-то не так. Наверное, я изначально не та. И начинаешь жить, как будто надо быть лучше, удобней, тише, мудрее, красивей, чище, скромней – лишь бы, может быть, наконец тебя выбрали.
Меня не выбирали. Меня сажали рядом, потому что так было положено. Меня кормили, потому что я голодала. Меня одевали, потому что зима. Но я всегда чувствовала: на самом деле, никому неинтересно, кто я. Что я люблю. Чего боюсь. Чего жду. Всё, что от меня требовалось – не мешать. Не задавать лишних вопросов. Не занимать лишнего места. Быть. Но не слишком.
Это ощущение – оно не уходит. Оно врастает в спину, в походку, в голос. Ты входишь в комнату и уже заранее просчитываешь: насколько громко ты говоришь, не слишком ли ты близко стоишь, не мешаешь ли чьим-то ожиданиям. Ты уже не ребёнок. Но в тебе живёт девочка, которая боится быть лишней.
Иногда я вспоминаю один эпизод. Мне было лет семь. Я принесла из школы рисунок. Там был дом – корявый, с заваленной крышей и кривыми окнами. Но я рисовала его долго, старалась. И когда протянула маме, она даже не посмотрела. Просто сказала: «Опять фигнёй страдаешь». И всё. Я помню, как окаменело внутри. Я не расплакалась. Просто больше не рисовала.
Вот так и учишься жить: не быть помехой. Не лезть с собой. Не ждать. Особенно – не ждать. Потому что ждать – это боль. А если ничего не ждёшь, то, может быть, и не так больно.
Но это ложь. Потому что ждать не перестаёшь. Просто глубже прячешь это ожидание. И когда кто-то появляется рядом – вдруг начинается голод. Как будто вся ты – это жажда быть замеченной. Услышанной. Принятой. И снова начинаешь делать всё, чтобы тебя выбрали. И снова не выбирают. Потому что ты сама себя не выбираешь. Ты всё ещё живёшь по чужому сценарию. Всё ещё надеешься, что в чьих-то глазах появится то, чего не было в детстве: тепло, направленное именно на тебя.
Я долго винила себя. Думала, что это слабость. Что я инфантильна, недоработана, недолюблена – и в этом моя вина. А потом стала смотреть иначе. Не глазами взрослой, которая требует от себя совершенства. А глазами той девочки. Маленькой, испуганной, но такой живой. Она хотела одного – быть нужной. Не за что-то. Не потому что. А просто.
И когда я стала учиться быть рядом с ней – не с позиции воспитателя, а с позиции равной – многое изменилось. Я перестала гнаться за вниманием. Перестала становиться лучше, чем я есть. Перестала пытаться доказать, что достойна. Просто осталась. С собой. Со своей реальностью. Со своей историей.
Выбирать себя – это не про эгоизм. Это про то, чтобы не предавать себя снова. Не становиться той, кто снова говорит: «Ты лишняя. Ты мешаешь. Ты не та». Мы не обязаны быть сильными всё время. Мы не обязаны быть мудрыми, просветлёнными, удобными. Мы имеем право быть.
Я не говорю, что теперь мне легко. Иногда я всё ещё хочу быть услышанной. Иногда голос из прошлого шепчет: «Ты перебарщиваешь». Иногда я сжимаюсь, когда кто-то отвергает. Но теперь я знаю: это не провал. Это старая память. Это тело, которое помнит, каково это – когда тебя не выбирали. И я просто дышу. Не бегу. Не стараюсь заслужить. Просто дышу – рядом с этой памятью. Как с тенью. Не гоню её. Не отрицаю. Просто остаюсь.
Иногда мне хочется сесть напротив себя той – маленькой – и сказать ей то, чего не сказали тогда:
«Я выбрала тебя. Ты – не ошибка. Ты – не обуза. Ты – не помеха. Я вижу тебя. Я слышу. Я не уйду».
Эти слова не решают всё. Но они – как вода. Постепенно оттаивают то, что было заморожено. И с каждым разом мне становится проще говорить: я есть. Я могу быть. Не для кого-то. Не ради. А просто – быть.
И в этом – начало настоящей любви. К себе. Не как концепции. А как возвращённому теплу.
Когда не надо больше просить. Потому что ты уже рядом.
Глава 3. Мама, которая не могла
Я долго не могла назвать её по имени – внутри себя. Для всех она была «мама». А для меня – кем-то сложным. Человеком, от которого зависела вся моя маленькая жизнь и одновременно – тем, кто меня не выбрал. Это не значит, что она была плохая. Скорее – уставшая, растерянная, когда-то поломанная и так и не собравшая себя обратно.
Я долго хотела её понять. Слишком долго. Искала в её прошлом объяснение своего настоящего. Знала, что её саму не любили. Что бабушка была жёсткой, тревожной, что ласку у них не хранили, а прятали, как слабость. Я слышала эти рассказы: про сиротство, про войну, про тяжёлую жизнь. И я сочувствовала. Правда. Но внутри всё равно оставался голод. Потому что сколько бы я ни понимала – мне от этого не теплее. Я не грелась объяснениями.
У нас не было разговоров. Были команды. Замечания. Обязанности. А потом – молчание. Она не спрашивала, что я чувствую. Не интересовалась, что мне нравится. Она не знала, кто я. И не хотела знать. Всё, что нужно было – чтобы я соответствовала. Чтобы не позорила. Чтобы была, как надо.
Иногда, глядя на других матерей, я ловила себя на чувстве: зависть. Не злой. А детской, пронзительной. Как будто мир устроен несправедливо: кому-то досталось тепло просто так, а кому-то – пожизненное объяснение, что ты «слишком». Слишком чувствительная. Слишком шумная. Слишком самостоятельная. Слишком какая-то.
Но теперь я понимаю: мама просто не могла. Не знала как. Не умела. У неё не было слов любви, потому что ей их никто не говорил. У неё не было практики ласки. Её саму не гладили по волосам, не говорили: «Ты – моя». Она выживала. И я стала частью её выживания. Обязанностью. Ролью. Функцией. И чем меньше я требовала – тем легче ей было. Поэтому я быстро поняла: лучше быть тихой. Лучше не хотеть.
Иногда я думаю: может быть, она и любила. По-своему. Как умела. В том, что не выбросила. В том, что гладила мои вещи. В том, что не позволяла мне идти на улицу без шапки. Может быть. Но это не то, что грело. Это было как суп без соли. Можно есть, можно жить – но вкус не запомнится.
Я помню один момент. Уже во взрослом возрасте. Мы с ней сидели на кухне. Чай. Тишина. Она вдруг сказала: «Ты всегда была сложная. Мне с тобой тяжело». Не со злом. Просто констатация. И я кивнула. Как будто снова стала той девочкой, которая молчит, чтобы не осложнять. Только внутри всё оборвалось. Потому что я не была сложной. Я просто была живой. Хотела чувств, слов, прикосновений. А в её системе координат это было слишком.
Я ушла от неё не в один день. Не физически. А внутренне. Сначала – в подростковом бунте. Потом – в раннем взрослении. А потом – в бесконечной попытке доказать, что я чего-то стою. Каждое достижение – как крик: «Посмотри на меня. Гордись. Заметь». Но она не видела. Или делала вид, что видит, но без души. Как будто между нами – стекло.
Сейчас, когда мне столько же лет, сколько было ей тогда, я начинаю понимать. Не оправдывать, нет. Но видеть шире. Я вижу женщину, которая не успела пожить своей жизнью. У которой были свои раны, свои неудачи, своя нереализованная мечта. И я – её напоминание об этом. Не потому что я виновата. А потому что ей было больно смотреть.
Иногда я думаю: а могла бы она быть другой, если бы жила в другом времени, с другим мужем, с другими опорами? Может быть. Но я не жду этого больше. Я не хочу переписывать сценарий. Я хочу отпустить.
Когда я стала мамой себе – я не делала это в противовес. Я не строила дом «не как у неё». Я просто стала давать себе то, чего не было. Иногда неловко. Иногда поздно. Но искренне.
И теперь, когда в теле поднимается то старое: обида, голод, ожидание – я не бегу к маме. Я иду к себе. Сажусь. Дышу. Спрашиваю: «Чего ты хочешь?» Иногда – просто быть обнятой. Иногда – разрешения ничего не делать. Иногда – услышать: «Ты хорошая». И я даю себе это. Медленно. Без лозунгов. Без насилия.
Я не жду, что она когда-нибудь изменится. Не жду звонка, в котором прозвучит: «Прости. Я была неправа». Это было бы красиво, но это – не про нас. Она не изменится. Но я могу. Я уже. Я – есть.
И с каждым разом мне всё проще видеть в ней не только свою мать, но и женщину. Тоже уставшую. Тоже не спасённую. Тоже ту, кого не выбрали. И, может быть, это и есть самое честное примирение: не идеализация, не прощение, не обнуление, а просто – признание. Она не могла. Я смогла.
А значит, эта история заканчивается не там, где началась.
А там, где я выбираю себя. Снова. И снова. И снова.
Глава 4. Я больше не зову
Когда-то я звала. Часто. Почти молча. Не словами – взглядом, жестом, дыханием. Внутренне – всем телом. Звала, чтобы заметили. Чтобы поняли без объяснений. Чтобы кто-то – любой – подошёл, прижал, остался. Не на секунду, не из вежливости, а по-настоящему: с вниманием, с теплом, с включённостью.
И никто не приходил.
Мир был занят. Люди были уставшие. Даже те, кто, казалось, должен был быть рядом, – у них были свои тревоги, свои взрослые задачи, свои невыносимости. А моё замирание – оставалось фоном. Не криком. Не катастрофой. Просто тенью на стене.
Я быстро поняла: если не хочешь быть брошенной, не зови. Лучше сразу молчать. Лучше справляться самой. Лучше научиться делать лицо «мне ничего не нужно». Даже если внутри – тонешь.
Это не про гордость. И не про силу. Это про выживание. Когда раз за разом не получают ответа, человек затыкает зов. Не потому что стал сильным, а потому что больше не верит.
Я не зову уже давно. Ни в любви, ни в дружбе, ни в одиночестве. Даже когда очень страшно, я просто молчу. Не потому что мне не больно. А потому что я больше не хочу оказаться на краю, протягивая руки в пустоту.
Сначала это казалось победой. Я гордилась: «Видишь, могу всё сама». Я стала взрослой. Независимой. Неуязвимой. Я перестала просить, чтобы остались. Перестала доказывать, что достойна. Перестала объяснять свою боль.
А потом поняла, что внутри меня всё ещё звучит этот детский зов. Он не умирает. Он замирает – и ждёт. Тишиной. Он прячется за контролем, самодостаточностью, отстранённостью. Но он есть. И иногда, в тишине, в сумерках, он вырывается наружу. Через сны. Через слёзы, которым не находится причина. Через тело, которое вдруг начинает болеть там, где не должно.
Я больше не зову. Но я стала слышать себя.
Это оказалось важнее.
Не ждать, что кто-то услышит – а научиться слышать самой. Не бежать к тем, кто не умеет быть. А быть – самой с собой. Не искать глаза, в которых найдёшь отражение, а смотреть в свои. Точно, спокойно, по-настоящему.
Иногда это страшно. Потому что там, внутри, всё ещё живёт та, которая так отчаянно нуждалась в ком-то. Которая смотрела на мир снизу вверх, с замиранием в груди, с верой: если я постараюсь, если буду хорошей, если не буду мешать – меня полюбят. Останутся. Выберут.
И никто не пришёл.
Но я пришла.
Постепенно. Без фанфар. Без лозунгов. Просто – осталась.
Когда мне плохо – я не отворачиваюсь. Не затыкаю боль работой, заботами, чужими историями. Я сажусь рядом с собой. Иногда кладу руку на грудь – и дышу. Просто дышу. Медленно. Так, как будто внутри кто-то действительно услышан. Без слов.
Я научилась быть себе матерью. Не той, которая спасает, учит, наказывает. А той, что остаётся. Не бежит, не отвергает, не ломает.
Это не защита. Это не сила. Это просто – дом.
Теперь, когда в отношениях кто-то исчезает, я не бегу за ним. Не зову. Не объясняю. Я не доказываю, что достойна любви. Я просто остаюсь с собой. И этого – хватает.
Это не значит, что мне не нужен другой человек. Это значит, что я больше не выпрашиваю. Не встаю на цыпочки. Не умоляю.
И если кто-то хочет уйти – я не держу. Не потому что гордая. А потому что больше не оставляю себя ради того, кто однажды обязательно исчезнет.
Я больше не зову – и в этом тишина. Чистая, честная. Без драм. Без обид. Без обесценивания себя.
Просто я есть.
И этого теперь – достаточно.
Глава 5. Стыд, который не мой
Стыд приходит не крикливо. Он просачивается внутрь, как холод по ногам, когда стоишь босиком на каменном полу. Его не видно. Он не громкий. Но он растекается по телу, по поступкам, по голосу. Ты начинаешь говорить тише. Сидишь на краешке стула. Смотришь вниз, когда кто-то хвалит. Сжимаешь плечи, когда входишь в комнату. Ты живёшь как будто извиняясь за то, что существуешь. Не потому что что-то сделала. А потому что с самого начала почувствовала: с тобой что-то не так.
Этот стыд не появляется внезапно. Он строится годами. С детства. С фраз вроде «ну и вид у тебя», «не выдумывай», «что за ерунда», «не будь такой чувствительной». Ты не знаешь, что именно ты сделала неправильно, но чувствуешь: твоё «я» – лишнее. Твои желания – неудобны. Твои слёзы – некрасивы. Твои страхи – глупы. Всё, что делает тебя живой, вызывает раздражение у тех, кто рядом. А значит, с этим нужно что-то делать. Прятать. Скрывать. Отказываться.
Я помню, как впервые почувствовала стыд за своё тело. Мне было лет девять. Я надела платье, которое казалось мне красивым. И мама сказала: «Тебе не идёт. Ты как бочка». Без злобы. Без намерения обидеть. Просто как факт. И с того дня я смотрела на себя в зеркало уже не глазами ребёнка. Я искала в себе изъяны. Живот. Щёки. Колени. Я больше не танцевала при людях. Не крутилась перед зеркалом. Я больше не чувствовала своё тело как своё.
Стыд поселился в одежде. В походке. В дыхании. Он обволакивал каждое проявление. Я начинала говорить – и замирала: а не глупо ли? Смеялась – и краснела: а вдруг громко? Плакала – и тут же извинялась: «Я в порядке, правда, просто…» Я как будто всё время сглаживала себя. Подравнивала. Стирала грани, чтобы не выделяться, не мешать, не раздражать.
Я не знала, что это – стыд. Думала, что просто скромность. Или воспитание. Или характер. Но теперь понимаю: это было убеждение, что такой, какая я есть – я неуместна.
И самое трудное в этом – то, что стыд не кричит. Он нашёптывает. Он объясняет, почему ты не должна просить. Почему ты должна молчать. Почему тебе не идут яркие цвета, открытые платья, громкий смех, дерзость, удовольствие. Он делает всё, чтобы ты уменьшалась. И ты уменьшаешься. Потому что так безопаснее. Потому что так тебя, может быть, примут.
Я долго не знала, что с этим делать. Не боролась. Жила, как будто это и есть норма. До тех пор, пока однажды не оказалась среди людей, которые смотрели на меня иначе. Не сканировали, не сравнивали, не ждали удобства. Просто были. Рядом. Тихо. Принимающе. И тогда впервые я почувствовала, как во мне что-то размораживается. Как будто внутри была замурована живая, теплая часть, которая боялась дышать полной грудью.
Я начала возвращать себе право быть. Не сразу. Не как в фильмах – где героиня вдруг надевает красное платье и выходит на улицу, ослепляя всех. А по чуть-чуть. Начала с простого: не извиняться за свои чувства. Не объяснять каждый свой поступок. Не сжиматься, когда кто-то смотрит. Просто – быть.
Иногда я стою у зеркала и долго смотрю на себя. Без оценки. Без критики. Просто – смотрю. Вот я. Вот лицо. Вот руки. Вот живот, который не стал плоским, но в нём живёт тепло. Вот бедра, которые не помещаются в стандарты, но носят меня по жизни. Вот грудь, которую я раньше стеснялась, а теперь глажу с благодарностью. Всё это – я. Моя. Не чужая. Не повод для стыда. А дом, в котором я живу.
Стыд не уходит сразу. Он встроен в память, в жесты, в голос. Но теперь, когда он поднимается, я не злюсь на себя. Я просто спрашиваю: чей он? Мне ли он принадлежит? И чаще всего – нет. Это не мой стыд. Это стыд моей матери, которую учили быть скромной. Это стыд моего отца, который не знал, как быть рядом с чувствующей дочерью. Это стыд общества, которое боится живых женщин.
И я не обязана его носить.
Я снимаю его, как старую одежду, больше не по размеру. Иногда – с болью. Иногда – с растерянностью: а кто я без него? Но каждый раз чувствую: становлюсь легче. Глубже. Честнее.
Теперь я могу смеяться. Не из вежливости – а по-настоящему. Могу заплакать – и не извиняться. Могу попросить – и не бояться, что откажут. Могу смотреть в глаза – и не отводить взгляд.
И самое важное – я могу быть рядом с другими женщинами, не пряча свою боль. Потому что знаю: стыд лечится присутствием. Тёплым, принятием, телесным. Не словами, не логикой, не советами. А просто: «Ты рядом, я рядом. И этого – достаточно».
Я не обязана быть правильной. Не обязана быть одобренной. Я есть. Такая, какая есть. И это – не ошибка. Это жизнь. Моя. Живая. Настоящая. Без стыда. Без фильтров. Без разрешений.
Глава 6. Та, о которой никто не спрашивал
Иногда боль не в том, что тебя обидели.
А в том, что никто не спросил – как ты.
Никогда. Ни разу.
Как будто ты была рядом, но не существовала. Как будто твоё состояние, настроение, желания – это что-то необязательное, второстепенное, лишнее. Сначала – потому что «ты же ребёнок, чего с тобой разговаривать». Потом – потому что «ты же взрослая, сама справишься». А между этим – никто не заметил, что тебя всё это время просто не было на карте важности.
Меня не спрашивали, как я. Просто ждали, чтобы я справлялась. Делала уроки, помогала, не нывала, не мешала, не выделывалась. Я научилась угадывать ожидания, заранее догадываться, чего от меня хотят, быть «умницей», «помощницей», «нормальной». Но внутри всегда жила тонкая, почти неуловимая тоска – быть увиденной. Просто потому что ты есть. Потому что ты чувствуешь. Потому что ты – не механизм, не проект, не удобное приложение к чьей-то жизни.
Когда никто не спрашивает, как ты, ты сама перестаёшь спрашивать себя об этом. Привыкаешь. Считаешь это нормой. Перестаёшь плакать – не потому что не больно, а потому что никто не откликнется. Перестаёшь радоваться – потому что радость, не разделённая, становится тяжёлой. Ты ходишь по жизни, будто в перчатках, будто через стекло. Всё есть, но не на вкус.
Я долго жила именно так – на автомате. Включённая в других, выключенная из себя. Слышала других. Поддерживала других. Догадывалась о чужой боли. И не слышала, как внутри меня кто-то тихо стонет. Не громко. Без истерики. А как раненый, который понял: помощи не будет.
Это была не смерть. Это было отложенное существование. Как будто настоящая я – в анабиозе. В резерве. На потом. Когда-нибудь, может быть, найдётся кто-то, кто увидит, услышит, дотронется. Кто спросит не из вежливости, а всерьёз: «Как ты? Правда. Сейчас. Прямо здесь».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».