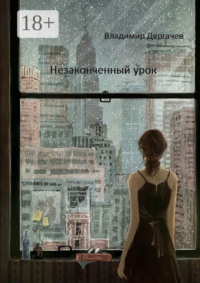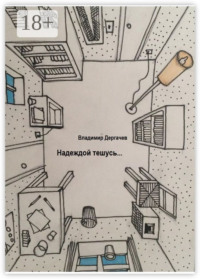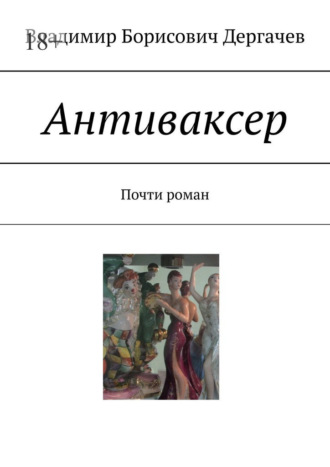
Полная версия
Антиваксер. Почти роман
Деньги у Марты водились, об источнике она предпочитала помалкивать, а Валентин не интересовался: и так половина жизни прошла почти в нищете, но только через десять лет Марта родит ему сына, назовут Никитой.
Страна тем временем начнёт понемногу восстанавливаться, первые послевоенные годы окажутся тяжёлыми, на прошлые беды наложится неурожай, так что из города они переедут в деревню, где у Марты оставался доставшийся в наследство от родителей старенький дом, довольно крепкий – своеобразное déjà vu для Валентина.
Вечерами взрослеющий сын, Никита, будет наблюдать завораживающие переливы пляшущих огоньков в топке старинной русской печки, странные образы людей, животных, птиц начнут возникать перед глазами, суетно толпиться, двигаться, пытаясь что-то сказать языком жестов. Своими фантазиями он не раз попытается поделиться с быстро стареющим отцом и его молодой женой, но понимания у родителей не найдёт. Пройдут годы, все попытки влиться в неожиданно сложившийся новый микрокосм окажутся безуспешными, оставалось ждать совершеннолетия, и оно неизбежно настало. Поэтому возвращение в город, в пустующую квартиру Марты, он воспримет с облегчением, даже с радостью, но случится это намного позже.
Никита
Период взросления Никиты пришёлся на время, принятое называть оттепелью. Тональность повседневности менялась на глазах, медленно, плавными накатами, рушившими казалось раз и навсегда устоявшиеся максимы, соответствовавшие его мировосприятию, на место которых приходили другие истины, некогда отвергнутые.
Окончание школы он воспринял с большим облегчением, но проблемы на этом не заканчивались – нужно было искать работу, оставаться в городе смысла не имело, он вернулся к родителям. На упрёки Марты о пассивном отношении к жизни и нежелании искать себя, обильно сдабривавшиеся примерами успешных соседских детей, отвечал скупо?:
– С таких пример не берут: если явление уникально, то его подобие невозможно, ибо оно неповторимо.
И всё-таки определённый эффект причитания Марты имели, хотя и звучали нечасто: новобрачные надолго обосновались в загородном доме, где Валентину проще находить новых клиентов, для которых в послевоенное время он оказался настоящей находкой: пошив одежды на заказ представлялся особым шиком, репутация нового портного, да ещё столичного, создавала вокруг Валентина особую ауру некогда недоступного, вожделенного.
Толчок к спонтанно возникшему увлечению Никиты – графике – дал случайно найденный плакат с изображением раздутого от ощущения собственной значимости насекомого, отдалённо напоминавшего пчелу, зависшую в воздухе над человеком с искажённым гримасой от ожидания боли лицом. На вопрос Никиты о происхождении и назначении плаката Валентин не отвечал, отмалчивался, отводя глаза в сторону, а потом вдруг предложил показать несколько приёмов художественного священнодействия. Никита согласился, будучи не вполне уверенным в целесообразности подобного обучения, но дело пошло. Точными движениями рейсфедера, извлечённого из запылившейся готовальни, непременного атрибута школьных занятий по черчению, он делал наброски фигур людей, исчезающих в мареве насыщенного влажностью воздуха, потом перешёл на изображение серых убогих загородных улочек, украшенных луковками церковных шпилей, за ними последовали портретные изображения. О цели и конкретной задаче своих занятий он не задумывался, вдохновение приходило само по себе, особенно усиливалось желание противопоставить казёнщине нечто своё при виде уличных плакатов, многие из которых ему запомнятся надолго: «Взаимное уважение между людьми», «Человек человеку друг, товарищ», «Обслужим культурно каждого посетителя», «Хулигана к ответу», «Имеются в продаже блины», «Смерть мухам», и как завершающий аккорд – «Помни: выпил, совершил прогул, нарушил общественный порядок – потерял премию, отпуск в летний период, дружбу товарищей». Особенно забавно выглядели два последних: на первом художник изобразил геометрически правильно выписанную рожицу с огромными разноцветными глазами и широко распахнутыми руками, за чем следовал завершающий аккорд: пальчики-молнии вместе с торчащими изо рта пульками, к одной из которых пририсовано кольцо. В центре шедевра на месте носа – треугольник с эмблемой: СССР. Надпись гласила: «Лучше сосок не было и нет, готов сосать до старых лет». Внизу, для большей убедительности, о чём идёт речь, следовало пояснение: «РЕЗИНОТРЕСТ». И второй, выглядящий сегодня почти издевательски: «Заставляй себя есть чёрную икру. ГЛАВРЫБСБЫТ».
Развеять сомнения своих родителей в пользе подобного времяпрепровождения помог опять же случай. Один из клиентов Валентина, работавший в кинофикации, обратил внимание на изощренную изысканность творчества молодого, почти отчаявшегося, паренька, оценив нестандартность его работ. Как это не покажется удивительным, свою роль сыграло отсутствие профессионализма (живописать Никита нигде не учился), выразившееся в необычной стилистике, которая, по мнению киноработника, должна была сыграть свою роль в привлечении зрителей в клубы и кинотеатры.
Дело в том, что часто не совсем удачные фильмы, отнесённые киноведами к третьей или четвёртой прокатным категориям, до столицы не доходили и приносили убытки, несмотря на широко раскинувшуюся по всей стране сеть кинотеатров. И если в крупных городах работали профессионалы, понемногу справлявшиеся с задачей агитации подобных пустышек, изощряясь в методах привлечения внимания киноманов, то в глубинке ощущался дефицит профессионалов от искусства. Восполнить этот дефицит и предложили Никите, он согласился. Первые наброски, сделанные тушью и пером, пришлись заказчику по вкусу. Затруднение, ограничивавшее свободу самовыражения, состояло в том, что работать приходилось наощупь, почти бессознательно улавливать исходящие от названия кинолент импульсы, так как заранее ни знакомство со сценариями фильмов, ни тем более встречи с реальными прототипами не предполагались в силу специфики кинодела: фильмы возили по всей стране, нереально огромные просторы которой не давали такой возможности, но позволяли в случае провала картины выйти минимум на порог безубыточности. Поэтому тема киноафиши конструировалась без художественного форм-фактора, его заменял информационный поток, некий синтез пропагандистской банальности и страха за подвижническую смелость собственного понимания забрезжившего нового жизненного порядка.
Исполнявшиеся Никитой плакаты в технике коллажа сочетали слепок с реальности с наростами колористических решений, плод его фантазий. Вдохновлённость молодого подмастерья от искусства поначалу пугала худсоветы, заседавшие в закрытых от посторонних глаз кабинетах, но удалённость от основных центров художественных промыслов сыграла свою положительную роль: на изыски и вольности не обращали пристального внимания, тем более, что при существовавшем объёме кинопроизводства на показ нового кинопроизведения отводилось не более двух недель, за каждым фильмом в очереди уже стоял следующий «шедевр». И главное: собственная интерпретация сюжетных линий иногда давала обратный эффект: притягательность упрощенного языка рекламы в сочетании с особым оптическим эффектом, достигавшимся Никитой благодаря добавлявшимся в состав кроющих средств особых светоотражающих материалов, создавала на удалении ощущение огромного рисунка, едва ли не монументальной фрески. И в то же время качество самого киноматериала, порой совершенно не соответствовавшего заявленной пафосности, настолько разочаровывало зрителей, что они покидали киноточку задолго до окончания ленты, сильно разочарованные. В итоге живописные работы Никиты фактически начинали жить собственной жизнью, в основе которой – избыточность фантазийного восприятия, где бессознательное выливается в самостоятельное, во многом навеянное бравурностью инфопотока, слишком явно контрастировавшего с материальным миром. С ним расстались.
Павел
Павел теперь жил с вдвоём с Марией в одном из престижных центральных районов Москвы, а потому отказать в зачислении в спец-школу строгая завуч не смогла. Мысль о принадлежности к элите придавала Павлу уверенности в себе: здесь возможно многое и в том, что всё ему по плечу, сомнений не было. К его большому удивлению, обстановка в школе резко отличалась от ожидаемой, несмотря на её звучное название и гремевшую на всю округу репутацию.
Дружбы в классе не складывалось, всегда удивляла непредсказуемость одноклассников, с которыми вроде бы неплохо знаком, а потом, оказывалось, что дело обстоит совсем иначе.
Будучи неисправимым романтиком, Павел полагал, что идеалы справедливости, верности, духовности, благородства, честности, а также прочие мантры педагогики советского периода, превозносимые классической литературой вкупе с изобразительным искусством, худо—бедно внедрявшиеся в сознание подраставшего поколения, только временно находятся в мире нереальности и вскоре заявят о себе, но попозже, надо немного подождать.
Не заявили. Реальность превозносимых художественных образов и озвученных ценностей подвергалась сомнению почти ежедневно, логике не поддавалась, вступала в конфликт с догмами, выглядевшими в устах преподавательского клира непререкаемыми, очевидными и бесспорными. Первое разочарование в их применимости закралось после истории со Стасиком.
Тогда целым событием в жизни школы стало введение занятий по военной подготовке – шаг логичный, а потому принятый учащимися с пониманием и даже с интересом. Преподаватель, бывший лётчик, слегка прихрамывавший после неудачного прыжка с парашютом, рассказывал увлекательно, эпатируя молодёжь даже не романтикой воздухоплавания, а в большей мере описанием деталей быта и тонкостей взаимоотношений в среде лётчиков. Особенно хорошо ему удавалось изложение звучавших в эфире переговоров, не обходившихся без забористой лексики, которую ему удавалось виртуозно обходить стороной, прибегая к иносказанию, а иногда и к лёгкой скабрезности, что вызывало смущенное хихикание у девчонок—одноклассниц (обязанность посещать занятия распространялась на всех, исключений не делалось).
Трагедия разыгралась неожиданно, последствия посчитали существенными, результатом стала отмена занятий во всех школах, чтобы возобновиться позже под новой вывеской.
Неотъемлемой составной частью программы была полевая практика, проще говоря – выезд на полигон в воинскую часть, расквартированную за пределами города. Детали предстоящего события военрук изложил заранее, ещё в школе, теперь предстояли стрельбы. Школьников приняли радушно, первым делом накормили (ленд—лиз уже работал), показали часть, потом отправились на стрельбище.
Полевой тир представлял собой неогороженное пространство с расставленными на требуемом инструкциями расстоянии фанерными фигурами в половину человеческого роста, приземлёнными, превратившимися почти в решето вследствие многократного огневого воздействия.
Школьников разделили на три группы по десять человек в каждой, вровень с количеством фигурных мишеней, раздали винтовки. Огневой рубеж предстал в виде разложенных на земле мешков, набитых трухой и опилками, хранивших контурные отпечатки многократно приложенных тел курсантов. Первая группа отстрелялась без происшествий, результат для новичков показала неплохой, заслужив одобрительную улыбку хозяев полигона и похвалу преподавателя. А вот до третьей группы дело не дошло.
Здесь придётся сделать небольшую оговорку – своеобразный экскурс в жизнь учащихся. В состав второй группы входил долговязый неуклюжий паренёк по имени Стасик, апатичный на вид увалень, над которым потешался весь класс. Причин нелюбви к флегматику как со стороны преподавателей, так и одноклассников, хватало: несмотря на своё кажущееся равнодушие к окружающему миру, задатки у Стасика имелись неплохие и проявлялись неожиданно в самые неподходящие моменты. Как будто сбросив с себя показную меланхолию, Стасик неожиданно бросался на защиту обиженных и слабых, вступал в спор с учителями, с усмешкой выслушивая их длинные отповеди и нотации с обязательным указанием на выявленные противоречия в представленной аргументации, сопровождавшимся едким комментарием в адрес оппонента. Нарочитая инфантильность паренька сильно раздражала учителей, чувствовавших превосходство юного дарования, о котором он догадывался и сам, но открыто не афишировал.
У всех вызывала почти что гомерический смех эстрадная миниатюра в исполнении артистичного паренька, когда внимательно осмотрев коридор на предмет отсутствия преподавательского состава и взяв в правую руку кепку, он залезал на школьный подоконник, приняв позу размещённых на всех площадях страны памятника известному пламенному революционеру, и, сильно картавя, начинал подражать школьному физруку, выкрикивая различные лозунги, заимствованные из утренних передовиц!
Естественно, друзей у него в школе было мало, и потому, как он проводит своё свободное время, никто не знал. Словом, во всей натуре царила неуловимая лермонтовская стать, о чём как—то неосторожно обмолвился старенький преподаватель Давид Яковлевич, автор уникального учебника по литературе, к сожалению теперь забытого, лично знававший многих поэтов Серебряного века. Однажды неосторожно высказанное мэтром соображение вслух в учительской каким—то образом стало достоянием не только преподавательского состава, но и класса, что добавило нелюбви к Стасу.
Однако вернёмся на полигон. Второй группе раздали дальнобойные винтовки, показали линию мишеней и строго—настрого запретили выходить на простреливаемую территорию до окончания пальбы. Путаница началась сразу после прекращения огня – Стасик, углубившись в свои размышления, то ли не расслышал, то ли проигнорировал номер своей мишени и заспорил с соседом, яростно оспаривавшим результат и номер фигуры. Для ясности: стреляли вдвоём в одну и ту же мишень, разобраться, кто выбил больше очков, никакой возможности не было. Тогда школьный правдоискатель, легко преодолев поперечные перехваты, с непонятными намерениями рванул в огневую зону, устремившись к картонному идолу. Раздался выстрел, Стасик упал. Споткнулся, подумали ребята, вот же увалень, даже здесь не может без скандала: сейчас вскочит и помчится дальше, размахивая шашкой. Его окликнули – никакой реакции. Страшная догадка поразила класс и тогда, следуя интуитивному порыву самосохранения, ребята разом, не сговариваясь, побросали винтовки в одну кучу – теперь не понять, чей выстрел оказался для одноклассника роковым.
Следствие тянулось полгода, но ни к чему не привело: класс стоял насмерть, каждый отрицал свою вину, одновременно отстаивая непричастность соседа, находившегося рядом на огневом рубеже. В итоге постановили: несчастный случай. До отмены допризывной подготовки оставалось четыре года, до конца войны – вдвое меньше.
А вот в пионеры принимали всех и сразу (в отличие от комсомола, но это потом), церемония выглядела тривиально—буднично, без особых церемоний. Повязали галстук, внимательно, изучающе посмотрели в глаза – проникся ли новообращённый значимостью момента, осознаёт ли важность события, испытывает ли гордость за державу? Остальное без изменений: занятия проходили в холодных классах, уроки приходилось делать одетыми в верхнюю одежду, но неудобства компенсировались в полной мере сознанием принадлежности к столице.
Вновь назначенной директрисе каким—то чудом удалось «выбить» (так называлось финансирование) средства под строительство спортивного зала в виде школьной пристройки, соединённой впоследствии с основным зданием большим и просторным переходом. Строительство (время военное) шло долго и тяжело, что подогревало живой интерес со стороны учащихся. Школьные коридоры быстро пустели во время переменок, если кого—то требовалось срочно найти – бежали на стройку: сначала в лабиринты размежёванного внутренними перегородками фундамента, затем под своды первого этажа, впоследствии выросшего до размеров огромного спорт—зала, а под конец строительства – в глубины актового зала, расчленённого колоннами.
И вот настал заветный день: стройка завершена, ключи торжественно вручены, все благодарственные слова, скрепя сердце, сказаны. После торжественной части группа почти друзей, включавшая нашего героя (Павла, если кто забыл), отправилась прогуляться вокруг вновь обретённого архитектурного монстра. В торце пристройки объявилась ранее незамеченная в угаре школьных игрищ дверца, ведшая в подвальное помещение. Одноклассник Павла, увидев брошенный строителями лом и неожиданно воодушевившись ценной находкой, вставил его в косяк и попытался открыть дверь. Дверь не поддавалась. Тогда в ход пошла связка домашних ключей, причём один даже подошёл, правда, только на разовый поворот. Довершить дело не составило труда: вставив ещё раз лом в дверной проём, лёгким поворотом на себя дверь с усилием открыли и радостно засмеялись, с гордостью обозревая плоды совершённого священнодействия. На наивный вопрос Павла – а, собственно, зачем это было делать, последовал незатейливый ответ виновника торжества:
– Как «зачем»? Теперь я всегда её смогу открыть!
Справедливости ради надо сказать, что самому зданию вандалы серьёзных повреждений не учинили и никаких следов взлома не оставили, а вот некоторые выводы – закладные камни жизненного пути – Павел начал делать уже тогда: ни с кем не делись случайным знанием – неизвестно, как отзовётся потом.
Но вернёмся к образовательному процессу. Поскольку школа считалась элитной, преподавались в ней иностранные языки, вернее один, считавшийся профилирующим – английский. Для получения необходимого результата требовался индивидуальный подход, поэтому класс разбивали на три группы, неравноценные как по количеству распределённых, так и по качеству, а скорее культуре обучения.
Самым удачным считалось попадание в группу Симы Израильевны. Пышущая здоровьем еврейка с огромной копной волос на голове спуска никому не давала, но вкладываемые знания цепляли даже самых нерадивых, то есть всех без исключения, и закреплялись в памяти практически навсегда. Натаскивала как бы шутя, с лёгкостью профессионала высшей пробы, завораживала своих подопечных так, что непонятные слова сами выстраивались в цепочку, создавая предложения, речевые образы, фонологии и так далее. Когда и где она смогла впитать в себя весь информационный поток, как ей удавалось вершить волшебство и добиться такого уровня профессионализма, так и осталось загадкой. О зарубежных стажировках речи быть не могла в принципе, да и сама бы она сочла подобное предложение нонсенсом или насмешкой, с её-то ФИО. Через несколько лет её уволили, поговаривали, что не сошлась характером с новой директрисой.
Вторую группу вела Елена Александровна. Весёлая, жизнерадостная, очень доброжелательная проводила занятия таким образом, что положенные сорок пять минут пролетали незаметно, из маленькой аудитории, имевшей форму вытянутого ученического пенала, постоянно доносился смех, а после звонка никто не стремился сорваться на переменку, так что детвору приходилось буквально выталкивать в коридор.
А вот с третьей группой, которую вела грозная Галина Петровна, возникала проблема за проблемой, о которых в школе предпочитали не говорить, почему, скоро станет понятно.
В один из дней Елена Александровна не вышла на работу, приболела, и оставшихся без преподавателей учеников распределили почти поровну, передав часть слушателей, среди которых оказался и Павел, под опеку Галины.

Нервозность обстановки в аудитории, беспричинную, генерировавшуюся всем обликом преподавателя, он ощутил буквально сразу. Зыркая орлиным взором на своих подопечных, Галина металась по аудитории, кидалась от стола к столу (громоздкие парты, примета советского Минпросвета, в классе не помещались) в поисках жертвы, и, требовательно глядя в глаза, набрасывалась на несчастного или несчастную, произнося отдельные слова, которые следовало немедленно озвучить в переводе на английский. Звонок звучал как спасительный гонг, возвещавший окончание раунда неравной борьбы тяжеловеса с новичком на ринге, комната пустела почти мгновенно.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.