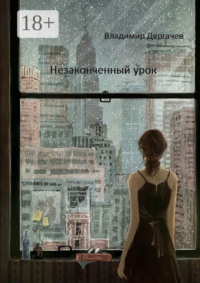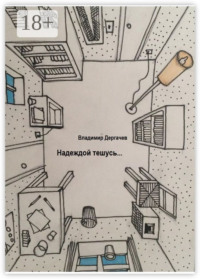Полная версия
Антиваксер. Почти роман
Подавить наступившую депрессию Николаю никак не удавалось, больше лежал, думая о чём-то своём. Соседи понемногу стали подтягиваться, несли кто что мог, пришла и баба Варя, целительница. Огляделась, в лицо внимательно посмотрела, руками поводила. Вывела в двор.
– Плюнь, – Николай плюнул.
– Дунь.
Николай дунул.
– Повтори.
Повторил. Облегчения не наступило, перед глазами пробегали рваные фрагменты пережитого, детально, рельефно. Пришёл и Валентин, долго мялся в дверях, Мария встретила неприветливо, в дом не звала, но и не гнала. Потом спросила:
– Что пришёл, на муку нашу посмотреть или жалость одолела? Хотя бы слово за нас сказал, а то как истукан на собрании торчал, вот тебе и результат – любуйся!
Тот пытался оправдаться.
– Моё слово не перебьёт всех – муравьед, чёрт хитрый, заранее село обошёл, настроил народ супротив. Вот и вышло.
– Я сразу так и поняла, в глазах прочитала. Запугал он вас, а чем – в толк не возьму, ведь пустой человек, гниль сплошная, а как вывернул – подводим мы село. Раньше ни помощи, ни благодарности, а теперь – на тебе, прямо без нас никуда! И никто голос не поднял – видать нравится жизнь сельская?
– Не так оно, сама знаешь: зажали нас, вроде бы вместе мы, единые, хозяйство общее, но вклад какой кто принёс – он определяет! А значит и расчёт его.
Мария слушала, никак себя не проявляя – ни движением руки, ни кивком головы понимающим, ни поддакиванием. Единственно эмоцию выдавала мутная пелена на глазах, как поволока, но с блёстками, будто плакать собралась.
Разговор завершили быстро – Валентин, потоптавшись в сенях, кинул взгляд напоследок, будто прощальный, вышел. Хлопнула дверь.
B
Неожиданный поворот в своих отношениях с односельчанами Николай переживал тяжело, мрачные мысли бежали чередом, давили, не давали покоя, разрушали. Усугубилась ситуация отсутствием альтернативы – зимой природа, как известно, замирает, дела не зовут, так что задавить переживания из—за неудачи и предательства односельчан никак не удавалось. В село тем временем провели радио – четырёхугольный бутон рода и семейства неизвестного, похожий на обгоревший брусок с дырой посередине, с утра и до позднего вечера транслировал бодрые отчёты о невиданных достижениях строящей новое общество страны. Дикторы без устали вещали о рекордах горняков, демонстрировавших фантастическую норму выработки, разглагольствовали о сплочении в едином порыве нации, росте уровня грамотности населения, прогрессе в области культурного строительства, укреплении международного положения нового государства, преодолении религиозных предрассудков, развитии школьной сети в городе и деревне. В обиход входили странные и не очень понятные термины: сверхиндустриализация, политехнизация, интернационализм, совнархозы, стальная партия, чистка, культпросвет, мировой коммунизм, командные высоты и так далее. Захлёбываясь от самонаведённого восторга, трубадуры перемен взахлёб рассказывали то ли о грядущем, то ли уже наступившем всеобщем равенстве, росте материального благосостояния населения великой державы, единении рабочего класса и интеллигенции, загнивании заморской буржуазии, плетении гнусных замыслов западными эксплуататорами против ростков нарождающегося будущего, где неимоверными темпами растёт промышленное и сельскохозяйственное производство.
С большим интересом Николай слушал отчёты о вкладе кооперированного крестьянства в подъём культуры земледелия, отныне и навсегда обеспеченного машинной техникой и испытывающего большой психологический подъём, о ломке вековых устоев, о завершении классовой борьбы в деревне, о помощи рабочих селу, результатом чего стало такое явление, как нерушимая связка города и деревни. Апогеем разглагольствований радио—златоустов явилось заявление о возможности строительства нового мира в одной отдельно взятой стране, не нуждающейся в чьих—либо указках и не приемлющей ложные посылы, нацеленные на деморализацию строителей земного рая.
Фантасмагорические картины, возникавшие в воображении сгрудившихся у столба с динамиком мужиков, их жён и голоногих ребятишек не совсем соответствовали окружающей сельской действительности и, видимо для того, чтобы развеять последние сомнения отдельных пораженцев, за дело взялись деятели искусства. За душу брала проникнутая пафосом революционной романтики драматургия, успешно прививалась новая мораль, не щадившая отсталость мышления и не допускавшая сомнений в оправданности очищающего огня революции, отмечался бурный рост монументальных произведений скульпторов и живописцев, отражавших характерные, как утверждалось, черты созидателей и результаты их свершений, выбивали слезу симфонии и оратории, которые новоявленные композиторы посвящали думам и чаяниям простого человека. Кантаты и оперы, фортепианные и скрипичные концерты, марши и песни о Родине – всё смешалось (сорри, кажется зарапортовался).
Ценителям искусства из глубинки, ещё не полностью осознавшим величие достижений культурного строительства, предложили иной жанр – политической графики, плаката, острой газетной и журнальной карикатуры, разившей невидимого и потому неведомого врага.
Именно это направление и стало той последней каплей, превратившейся в жирную кляксу, окончательно отравившей жизнь Николая. Как—то вечером, мучаясь зимней бессодержательностью своего пребывания в деревне, он зашёл в недавно открывшийся сельский клуб и неожиданно увидел прямо напротив входа графическое изображение некоего пчеловода, начертанное в виде трутня—старца, высасывающего из улья солнечный мёд под жужжание роя возмущённых пчёл, потревоженных наглостью непрошенного гостя и неподвижно застывших в воздухе. О важной функции трутня в деле воспроизводства роя и необходимости выемки сот карикатурист явно не знал, как и не ведали о том бывшие друзья—односельчане, с ухмылками наблюдавшими за обескураженным Николаем.
Домой вернулся засветло, короткий зимний день ещё не успел закончиться, но выйти из дома он уже не сможет – откажут ноги. Он доживёт до весны – в первые солнечные дни, которые нагрянут в марте, его выведут на крыльцо, усадят на потрёпанный венский стул, оставшийся в наследство от отца. Жадно будет смотреть на холодный солнечный диск, трезво осознавая свою беспомощность, но ещё пытаясь впитать льющуюся от светила энергию,.
Смерть придёт за ним через два дня – источённый переживаниями и отсутствием нормальной еды организм всё—таки даст шанс в последний раз обнять Марию, отводящую в сторону заплаканные глаза, попросить прощения за мелкие грешки и необеспеченную старость, потом тихо уснуть.
На похороны придут немногие, едва наберётся человек десять, поминки также будут скромные – не до жиру. А через неделю, не дождавшись положенных сорока дней (кстати, новые властители дум данный предрассудок почему—то искоренять не стали), в дом Марии войдёт Валентин. Про беременность Марии он ещё не знает.
C
Мария и Валентин жили вроде бы дружно, к прошлому не возвращались (по умолчанию, как теперь говорят), только не знал Валентин, что боль утраты Мария глушила мелкими проблемами, подчас надуманными, домашними делами, хозяйственными заботами – в общем всем, за исключение заброшенной пасеки, детища Николая, чтобы не тревожить душу. Незадолго до войны все прознали про окончание переходного периода в истории страны, во время которого сбылось мудрое предсказание вождя мирового пролетариата о превращении отсталой нэповской России в передовую страну.
И действительно – на прилавках появился товар, сократились, а потом и вовсе исчезли очереди в магазинах, заговорили о необходимости материальной заинтересованности работников в городе и на селе при обязательном соблюдении принципов дисциплины труда и взаимовыручки, потом появились предметы потребления для людей, словом, ширпотреб, трудные времена уходили понемногу в прошлое.
Бодрило.
Казалось, дорога в город теперь открыта, но у Марии что—то внутри сломалось, да и Валентин особого желания переезжать не выказывал. Нашлось и ему дело в сельском клубе – том самом. Воспевал он теперь изобразительными средствами поэзию труда, преобразованный мир, открывал внутреннюю сущность явлений, клеймил варварские преступления агрессивного империализма, обличал пороки общества. Техника – в основном графика. Откуда в нём этот талант, Мария так и не поняла, правда было одно сомнение: оформили его художником очень быстро после того случая с первым мужем, но вопрос так и остался висеть – нет, не в воздухе, а где—то там, в подсознании: шлейфом тянулось прошлое, роем наплывали воспоминания, с которыми не совладать, не спрятать от себя, не обмануть.
Жить вчерашним днём невозможно, оно мешает пониманию настоящего, засасывает, туманит сознание болью разочарований, разрушает. Всплески памяти вторгались в повседневность хаотично, попытки запрятать непрошенное в теневую часть рассудка результата не давали. Регулярно возникавшие позывы на откровение вызывали страх перед возможным раскаянием, которого она не ждала ни от себя, ни от Валентина, а хуже всего было привитое когда—то родителями чувство сопричастности к чужим проступкам: оно сбивало с толку, мешало думать, бросало в пот. Такая вот вселенская ответственность.
А вскоре грянула война.
D
В дверь избы постучали, Мария открыла не сразу: оставаться одной после ухода Валентина добровольцем было не то, чтобы страшновато, но несколько непривычно. Одиночество переносила стойко, не отторгала, но и смириться не получалось.
На пороге стоял мужчина средних лет, небольшого роста, слегка сгорбленный, как под тяжестью невидимой ноши. Позже станет понятно: влекло не земное притяжение, одинаково неодолимое для всех, а груз постигшей беды и безысходности, усугубленный всеобщим безразличием и отсутствием видимого выхода, спасительного для своего ребёнка. Сложнопроизносимое название редкой болезни ничего не сказало Марии, но прозвучавшая просьба и удивила, и порадовала. Незнакомец просил продать мёд, о котором ему поведали в одном городском коммерческом ресторане, продолжавшем, как это не казалось странным для военного времени, работать. Сговорились быстро – деньги заканчивались, денежного довольствия не хватало, рассчитывать приходилось только на себя. И вот появился шанс дотянуть до весны на хранившихся в подвале запасах златоцветного продукта, благо его качество всегда оставалось отменным – бодяжить покойный муж никогда себе не позволял, мёд засахаривался аккурат к ноябрю, как бы стараясь следовать Указу Екатерины Второй, предписывавшего сечь торговцев «негустым» медом, если не сахарится к ноябрю.
Незнакомец, так и не представившись, забирал продукцию в кадках раз в две недели, возвращал исправно, платил хорошо, не торгуясь, откуда деньги – не говорил, да Мария и не спрашивала, не в её правилах. Источник поначалу казался неиссякаемым, но визиты постепенно становились более редкими, а вскоре и вовсе прекратились – похоже, девочка поправилась. Так наступило время искать новый выход, который теперь лежал буквально на поверхности, пчеловодство называется, в нём и нашлось спасение.

Нехитрому и новому для себя делу она обучится быстро, благо первый муж любил делиться особенностями своего ремесла, а вся необходимая утварь оставалась нетронутой и хранилась в его, теперь уже чужой комнате. Поначалу собирала накопившиеся в дуплах медовые языки – златокудрые, вязкие, отдаваться не хотели, немного их, искать надо, да и соперников хватает, животных разных, свирепых и не очень, а с ними как совладать? Потому и пришлось вновь к пасеке обратиться, благо недалеко она. Оставалась одна проблема, заключавшаяся в необходимости постоянных перемещений, так называемого кочевья, и здесь, к её удивлению, на помощь пришли соседи, имена которых она уже начинала (или хотела) забыть. Новый поворот в отношениях с сельчанами, ставший для неё спасительным, восприняла с некоторой опаской, но на давнюю историю с собранием смотрела, как на предательство, пусть и вынужденное, и полного прощения не наступало.
Они приходили, как на вахту: мужская часть населения утром, женщины – ближе к вечеру, покончив с домашними делами. Мария оставляла детей, шла на место нового расположения пасеки, действовала больше по наитию, стараясь ничего не упустить из когда—то услышанного от покойного мужа. А вскоре появились и новые клиенты, городские, большей частью незнакомые, прознавшие про её предприимчивость благодаря первому визитёру.
Городская учительница приезжала регулярно, издалека. Денег у неё не было, расплачивалась вещами, ношеными, но вполне пригодными для дальнейшего использования. Разговорились, почти подружившись: оказалось, теперь она работала в казённом учреждении под название Минпрос, часто посылавшим своих сотрудников в командировки по стране.
Жизнь в городе, по её рассказам, складывалась тяжелее, чем в деревне: бороться приходилось за выживание не только с нехваткой продуктов, но и с холодом. Зимой отопление не работало, время непростое, в школах дети занимались в верхней одежде, на уроках сидели в полушубках, либо в утеплённых пальто, по горло замотанные шарфами, чернила стыли в невыливайках, а ещё везде надо поспеть, ибо заботам не видно конца, поведала Катерина (так звали горожанку). Дома ситуация отличалась ненамного, особенно тяжело пришлось в первую зимнюю кампанию, потом стали приспосабливаться. Только к ночным налётам привыкнуть не удавалось: упавшая рядом с её пятиэтажкой бомба слегка покачнула дом, всех перепугав. Тот как бы немного задумался – в какую сторону клониться дальше, потом вернулся на место, но не полностью, не весь: одна стена не захотела положенную ей нагрузку нести и, оставшись слегка наклонённой, застыла под небольшим углом. Теперь жильцам приходилось заполнять образовавшуюся между полом и несущей конструкцией щель всем, что оказывалось под рукой: старыми тряпками, бабушкино—дедушкиными ковриками, плащевиками, потёртыми шапками, беретами, накидками, когда—то модными женскими муфтами, рваными перчатками, калошами, полосатыми санаторными пижамами, обрывками старых бумаг, дырявыми сапогами и разлохмаченной обувью, а также побитыми молью лисьими воротниками, матерчатыми мешками, и, на худой конец, газетами. Манипуляции требовалось повторять периодически: стена продолжала своё свободное движение вовне, пугая жителей непредсказуемыми ночными скрипами, сопровождавшимися лёгким потрескиванием и, как говорили некоторые, особо впечатлительные, даже вздохами, исторгаемыми почти живым организмом.
Мария слушала с интересом, старалась не перебивать, лишь изредка уточняя детали: многое для неё необычно, в город ездила всего несколько раз, впервые – школьницей, с родителями. Тогда неожиданно ввели платное обучение, а денег в семье в обрез, о домашнем образовании и речи быть не могло («мало чему там научат, надо по программе»), так что решать проблему пришлось через город. Получилось, им разрешили. За казённый счёт.
Мария и Валентин
В дверь квартиры позвонили, Мария пошла открывать. На пороге стоял худощавый мужчина в потёртой одежде с изъеденным оспой лицом и наглым взглядом выразительных глаз.
– Привет, – с ходу заявил непрошеный гость, оценивающим взглядом окинув с ног до головы Марию, – трёшки на сигареты не найдётся?
Безаппеляционность заявки на курево сопровождалась нарочито медленным вытягиванием из кармана свинцового кастета с показательно—аккуратным натягиванием свинчатки на пальцы. Вымогатель просчитался – Мария, закалённая сельскими работами и перетаскиванием пчелиных домиков, сориентировалась мгновенно: удар носком в пах, за которым последовал второй, в кадык. Удары скрючили бандита, согнули пополам, надвое. Потасовку завершил выскочивший из комнаты Валентин, опрокинувший посетителя на площадку перед дверью и столкнувший его вниз по лестнице, после чего быстро захлопнул входную дверь.
– Я тебе говорил, всегда спрашивай, кто пришёл: здесь город, только потом открывай! Преступность какая, оружия по стране гуляет не счесть, – набросился на жену Валентин. – У меня тоже был соблазн прихватить трофейный Вальтер, мечта, а не оружие, но потом одумался: на патруль можно нарваться или ещё чего случится, а нервы и так на пределе, по ночам снится до сих пор мясорубка, так что неизвестно, чем бы всё могло закончиться.
Квартира, в которой неожиданно для себя оказались Мария и Валентин, состояла из трёх комнат и огромной прихожей, где подраставший сын от первого брака, Павел, которого Валентин принял, как своего (отдадим должное), мог кататься на велосипеде, играть в футбол и даже прятаться за безразмерными коробами из картона, хранившими вещи настоящих хозяев. Жильё в городе им досталось совершенно случайно, можно сказать – по наследству, хотя понятие права частной собственности отсутствовало в стране в принципе: исключение делалось для предметов личного пользования, классифицировавшихся, по недоступным для населения идейным соображениям, в качестве собственности индивидуальной.
А получилось так: зачастившая к Марии покупательница, проживавшая в городе, превратившись в постоянную клиентку довольно откровенно рассказала о своих неврозах и порой оставалась переночевать, дабы не тащиться в дальнюю дорогу в тот же самый день. Заодно спасалась от холода и страхов, навеянных вынужденным одиночеством. Женщины подружились, многое из поведанного Натальей (так звали горожанку) звучало для Марии, мягко говоря, странновато. У её мужа, руководителя крупного предприятия, имевшего важное значение для обороны страны, имелась, естественно, бронь от призыва, но назвать такую индульгенцию большим благом язык у супруги не поворачивался. В городе они жили втроём – брат Натальи Григорий, немного старше её, занимал одну из комнат необъятной квартиры, страдал глухотой – результат неудачного подрыва породы на горном предприятии, и из своей комнаты выходил довольно редко, будучи полу—инвалидом. Поэтому, когда мужу Натальи поступило указание срочно эвакуировать предприятие, (на всё—про—всё дали три дня), оставить Григория оказалось не с кем. Муж с эвакуируемым предприятием уехал один, решать проблему следовало немедленно: жадные и недоброжелательные взгляды соседей говорили сами за себя, а тем временем приходившие из далёкого Зауралья письма порой холодили кровь не хуже, чем суровые зимние морозы.
– Представляете, – делилась с новой подругой Наталья, – предприятие выпускает аккумуляторы, немцы близко к городу подходили, поэтому демонтировали оборудование впопыхах, но управились, погрузились, мат стоял невообразимый. И это ещё полбеды: ехали неделю почти, эшелоны встречные пропускали, сплошь теплушки, отливающие серыми шинелями, наконец добрались.
– И?
– Вот тут самое интересное начинается: высадили прямо в поле, показали место, где выгружаться и строить предприятие заново, а потом поступило указание: завтра же дать первую продукцию!
– Неужели такое возможно?
Оказалось, возможно – они действительно успели. Кто—то из смекалистых в переполохе догадался прихватить незавершёнку, представляете, ведь сборку можно и на открытой площадке делать, вот и управились, а то бы… время военное, сами понимаете!
Мария слушала внимательно, не перебивая, своего мнения не высказывала, оценок не делала – история с сельским собранием научила многому. Наталья продолжала:
– Постепенно они там разобрались, до холодов успели цех поставить, только с бытом у них плоховато: женщин нет, готовка и стирка – на них, а работать когда? Да и появится если кто, потом не отцепится: мужики сейчас в дефиците, сами знаете.
Мария знала: время уходило понемногу, по капельке, рассыпалось, как крупинки в песочных часах, с одной только разницей: обратно его вернуть не удастся, даже если часы перевернёшь, не получится!
Про своё жилье Наталья упомянула вскользь, один раз, отслеживала реакцию. Сразу перешла на тему условий жизни мужа, которому доставалось более других: должность почти расстрельная, но кое-как смогли донести до высоких руководителей некоторые особенности производства, достучались, правда муж по-прежнему оставался один, так что надо ехать.
Сдержанность Марии подкупала, выход напрашивался сам собой: заселить Марию с ребёнком в квартиру: они и за братом Григорием присмотрят, на жильё успели выписать охранную грамоту, соседей наказала не пускать, ничего не объяснять – и так волком смотрят, сквозь зубы здороваются. Ребятам во дворе сказать, что, мол, приехали дальние родственники, временно, в школе – повторить версию родства (оплату за обучение к тому времени отменили), а что разные фамилии, так до этого дела никому нет и объяснять ничего не следует.
Так и поступили – через месяц Мария переехала в город, в хоромы, выглядевшие со всеми своими премудростями до неприличия шикарно: вода из крана, газ, колонка в ванной комнате, облицованной белоснежным кафелем, утренние газеты, чудесным образом появлявшиеся в газетном ящике, прикрученном с обратной стороны двери и, о чудо, телефонный аппарат, дисковый, с трубкой на рычажках, напоминающих коромысло, на котором Мария носила в деревне воду из дальнего колодца, и непонятным шильдиком, гордо заявлявшим о себе непонятными буквицами:
L.M.EricssonPatentStockholmС Гишкой (так называл его Павел, сын Марии) отношения сложились сразу и неплохо. Единственное, что беспокоило Марию – привычка деда много курить, пристрастие давнее, но протестовать себе не позволяла, права такого не имела. Проблема решалась проветриванием, постоянным открывание форточек в разных комнатах, следствием чего стали частые зимние простуды из—за бушевавших вихревых сквозняков. Зато в остальном никаких противоречий не наблюдалось: дед передавал Марии часть своей пенсии по инвалидности, питались за одним столом, единой семьёй. Подружились так, что сын с дедом стали неразлучны: Павел, открыв рот, слушал рассказы, порой забывая про уроки, и прогулкам во дворе предпочитал просиживание вечера в его комнате. Тот старался не курить в его присутствии, всячески сдерживался, а вскоре и сам крепко привязался к смышлёному пареньку. Если соскучится – заманивал его самодельным бутербродом, который готовил загодя: буханку черного хлеба из ржаной муки нарезал большими ломтями, украдкой извлекал из авоськи, подвешенной на улицу через форточку, кирпичик сливочного масла, быстро перекидывал продуктовый кошель обратно, пока не растаяли остальные продукты и не заметила Мария, а отщеплённую масляную лучинку неверными движениями трясущихся рук наносил на душистую поверхность ломтя и обильно сдабривал кулинарное произведение слоем поваренной соли. Бутерброд—экспромт отлично заменял кондитерские изделия, о существовании которых Павел узнает много позже, не сразу, даже не в первые послевоенные годы.
Валентин
Увядание чувств Валентина происходило так же медленно и неосязаемо, как переход из состояния бодрствования в режим сна: раз, и ты уже в ином измерении, неподконтрольном разуму. Всему причиной стал переезд в город, обернувшийся для всей семьи неожиданной стороной – город полнился новыми возможностями и неизбежными соблазнами, значительно отличавшихся от прежних. Новая профессия скорняка и одновременно портного позволяла не только постоянно расширять круг знакомств, но в дальнейшем подходить к процессам избирательно, вычленять наиболее выгодных и перспективных клиентов. Таким персонажем оказалась вдова средних лет по имени Марта, с которой сразу сложился контакт, не замедливший перерасти во взаимную симпатию.
Появление Марты в принципе было предсказуемо: мужская половина населения сильно поубавилась из-за войны, оказавшись в большом дефиците. Беду дополняло распространение венерических болезней, занявших существенное пространство, а заодно и немногих специалистов, пытавшихся справиться с напастью, но не очень продуктивно по вполне понятной причине, противостоять которой никакой возможности не было. О моральной стороне никто не задумывался, беда представала в виде чёрного мохнатого паука, опутывавшего людей липкой паутиной и плодивших тарантулов, рассеивающих своих детёнышей.
Так что Марта была для Валентина настоящей находкой: женщина неглупая и одновременно самолюбивая, способная даже на самопожертвование. О своём прошлом предпочитала умалчивать, отдав возможные домыслы на волю фантазии окружающих, неизменно убеждённых в непогрешимости своих суждений, а потому абсолютно и категорически непримиримых с иным мнением. Насколько она властна выяснится позднее, когда уход Валентина из семьи станет свершившимся фактом, не предполагающим возможности отыгрывания назад. Да и Мария его не примет, если что не так сложится, гордая она, бескомпромиссная). Эгоизм натуры Марты скорее говорил о деспотизме, любое противоречивое суждение ставило её на дыбы, раздражало, вызывало отторжение. Пикантность ситуации заключалась в том, что новые семьи (одна, теперь неполная, Мария да Павел) жили в домах, расположенных друг против друга, благодаря чему и познакомились – топографическая близость способствовала возникновению близости иной, плотской, долго скрывать которую оказалось невозможным.