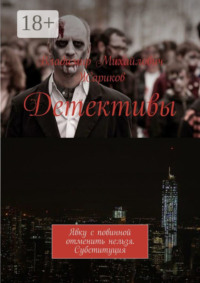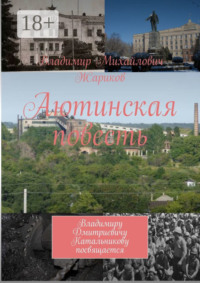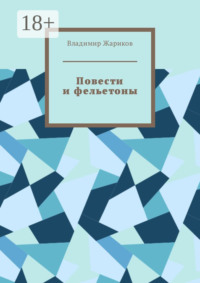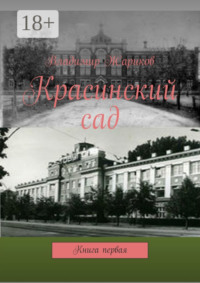Полная версия
Уравнение Гровса с тремя неизвестными. Шпионский детектив
Когда Берия и члены комитета Молотов, Булганин, Каганович, Маленков, Вознесенский и Микоян расселись по своим местам, Сталин поздравил всех с Новым годом и пригласил на праздничный ужин в Кунцево. После чего заседание продолжило работу в обычном режиме, Василевский, приблизившись к карте военных действий, долго рассказывал о положении на фронтах. Сталин в это время курил свою трубку, набитую табаком папирос «Герцеговина Флор» и казалось, не слушал доклад начальника Генерального штаба. По выражению его лица было понятно, что Верховный Главнокомандующий чем-то озабочен, что не дает ему сосредоточиться на докладе.
Обычно у Верховного имелся ряд вопросов к Василевскому, но сегодня он молчал и только кивнул головой, разрешая ему сесть, после окончания доклада. Когда приглашенный нарком госбезопасности остался в кабинете вождя после окончания заседания, все члены комитета поняли – тревога Сталина не случайна. Особенно нервничал Берия, который вот так же, как сегодня Меркулов, часто оставался там для разговора тет-а-тет. Кроме начальника личной охраны генерала Власика мало кто знал, что с недавнего времени Сталин часто вызывал Меркулова по ночам на дачу в Кунцево. О чем так долго информировал Сталина нарком госбезопасности, в подчинении которого находилась внешняя разведка? А Меркулову в свою очередь было непонятно, почему иногда вместо него, Сталин приказывал приехать на дачу руководителю внешней разведки НКГБ Фитину? Это казалось недоверием и немного обижало Меркулова.
В последнее время Сталин не делился с кем-либо из ближайшего окружения полученной от Меркулова и Фитина информацией. Так он сохранял монополию на право формулировки окончательного решения по любому вопросу, рассматриваемому на заседаниях ГКО. Зная сведения разведки, можно легко ориентироваться в ситуации и делать единственно правильный вывод. Зачастую это вызывало восхищение его ближайшего окружения, но порой недоумение, а иногда даже воспринималось, как странность, граничащая со старческим маразмом. Сталин не пытался объяснять свои выводы и предлагаемые решение, он просто диктовал их Поскребышеву для записи в результирующую часть протокола.
В первые дни войны Молотов, Микоян, Каганович, Калинин, Ворошилов и Берия, открыто возмущались просчетами Сталина во внешней политике в отношении Германии. Они считали также, что и в 1942 году по его ошибке были сосредоточены главные резервы на отражение наступления фашистов на московском направлении. А Гитлер решил нанести главный удар на юге, что позволило его войскам прорвать оборону, там, где их не ждали и стремительным маршем продвинуться до самой Волги и Кавказа. По этой причине Сталин на некоторое время потерял инициативу главного стратега Ставки. Теперь, когда война вышла в завершающую фазу, он принимал решения единолично и считал необязательным информировать состав ГКО о сведениях, полученных из донесений внешней разведки.
В начале ХХ века ученые спокойно занимались исследованиями в области радиоактивности. Они свободно делились информацией, выступали с докладами на международных конференциях, наперебой спешили опубликовать данные о новых открытиях в научных журналах. Удивительный мир атома оставался монопольным достоянием физиков, и, казалось, он никак не мог привлечь внимания разведчиков. В конце 1938 года удалось открыть явление распада атомов урана при бомбардировке их нейтронами. Расчеты показывали, что распад должен сопровождаться выделением энергии, которая на единицу массы в два-три миллиона раз превосходит количество энергии, выделяемой при сгорании каменного угля, нефти и даже пороха. Было высказано предположение, что при наличии достаточно большой массы урана может происходить взрыв колоссальной силы.
Вслед за этим свободная публикация материалов сменилась молчанием в отношении работ и открытий, касавшихся деления атомов. Одним из инициаторов засекречивания исследований в области атомной энергии был венгерский ученый Лео Сцилард, переселившийся в Америку из Европы в годы фашизма. По его инициативе Альберт Эйнштейн отправил письмо президенту Рузвельту, в котором указал на возможность появления бомбы нового типа на основе атомной энергии, которая должна обладать чудовищной разрушительной силой, и высказал опасение, что фашистская Германия может первой создать такую бомбу.
Была введена строгая цензура на научные публикации, в печати запрещалось употреблять даже выражение «атомная энергия». Именно на этот факт обратили внимание начальник научно-технической разведки Леонид Квасников и нью-йоркский резидент Гайк Овакимян. Имея его подтверждающие данные об запрете публикаций по урановой проблеме на Западе, Квасников инициировал посылку директивы резидентурам в США, Англии, Франции и Германии о начале поиска научных центров, где могут вестись исследования по созданию атомного оружия, а также обеспечить получение достоверной развединформации.
Сначала пришел ответ из Германии: в донесении говорилось о том, что недалеко от Пенемюнде в засекреченном исследовательском центре немцы разрабатывают дистанционно управляемые ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, способные за полчаса преодолеть расстояние в 500 км и стать средством доставки урановой бомбы. В сентябре 1941 года пришла информация из Лондона. Это были ценнейшие материалы, в которых очень кратко сообщалось содержание представленного Черчиллю особо секретного доклада, а также информация о том, что идея создания сверхмощного оружия приобрела вполне реальные очертания. Досконально изучив разведывательные данные из Лондона, Квасников доложил информацию Берии. С началом войны руководство страны объединило НКГБ и НКВД во главе с Берия, а в апреле 1943 года опять разделили наркомат на НКГБ, который возглавил Меркулов и НКВД, оставшийся под руководством Берия.
Реакция Лаврентия Павловича на доклад Квасникова тогда была отрицательной. Берия считал, что это «деза», нацеленная на отвлечение материальных, людских и научных ресурсов от удовлетворения насущных потребностей фронта. Через некоторое время Сталину пришло письмо от ученого-физика Флерова, открывшего еще до войны вместе с Петржаком спонтанное деление ядер урана. Он писал вождю: «Одной такой бомбы достаточно для полного уничтожения Москвы или Берлина, в зависимости от того, в чьих руках бомба будет находиться. Государство, первым изготовившее такое оружие, сможет диктовать свои условия всему миру».
В апреле 1942 года Флеров направляет второе письмо на имя Сталина: «Это мое последнее обращение к Вам, и если Вы не отреагируете на него должным образом, то я, как ученый, складываю оружие, и буду ждать, когда удастся решить атомную задачу в Германии, Англии или США. Результаты окажутся настолько ошеломительны, что нам будет не до выяснений, кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили подобные работы…» Когда все аргументы сошлись в один пакет, Берия все же согласился доложить об этом Сталину. Подготовить записку, было поручено Квасникову. Убедительные данные разведки, побудили Сталина принять решение о возобновлении работ по созданию советской атомной бомбы, прекратившихся по причине начала войны.
В феврале 1943-го было подписано распоряжение по Академии наук СССР о создании лаборатории №2 под руководством Курчатова, который сразу же вызвал в Москву физиков-атомщиков Харитона, Кикоина, Зельдовича и Флерова. Они начали работу по организации новой отрасли промышленности с неизвестными доселе сооружениями и производственными технологиями. Нашей разведке поступили сведения, что США и Великобритания договорились о планах совместного создания ядерного оружия и обмене научной информацией по этой проблеме. Работы над урановой бомбой в США стали проводиться под общим названием «Манхэттенский проект», а в Англии – «Тьюб Эллойз». Белый дом принял решение об ассигновании крупных финансовых средств на свой проект. Англичане, которые вели войну с Германией, не могли позволить себе такого объема вложений и поняли, что им в одиночку не осилить создание собственной атомной бомбы, но работ по «Тьюб Эллойз» не прекратили.
Главными объектами «Манхэттенского проекта» являлись строящиеся Хэнфордский и Окриджский заводы, а также Лос-Аламосская лаборатория в штате Нью-Мексико. Именно там предполагалось разработать конструкцию атомной бомбы и технологический процесс ее изготовления. В Лос-Аламосе больше всего боялись проникновения шпионов, особенно агентов нацистской Германии. Поэтому конспирация и меры безопасности были самые жесткие и совершенные. Стена величайшей секретности оказалась весьма эффективной, и ни одной разведке мира, кроме советской, не удалось «заглянуть» за ее пределы.
Начиная с 1941 года, наши разведчики собирали данные по всем странам Запада, ведущим разработки в области создания атомной бомбы. Эту разведывательную операцию назвали хитроумным словом «Энормоз», что в переводе с английского означало «чудовищный». Всего в ней были задействованы 14 особо ценных агентов, в том числе всемирно известный ученый-физик Клаус Фукс. Вначале Великой отечественной войны он передал имеющиеся у него сведения об атомных разработках англичан. Ученый был коммунистом, испытывал симпатию к СССР, которому, как он считал, нужно оказать помощь. Клауса беспокоило, что в Третьем рейхе в ближайшее время будет создано ядерное оружие, а Англия и США делают атомную бомбу в секрете от СССР. Фукс, как и многие учёные, был против монополии одной страны на новое оружие чудовищной разрушительной силы.
В конце 1941 года Фукс пришёл в советское посольство в Великобритании и рассказал о ведущихся секретных работах по проекту «Тьюб Эллойз» и готов безвозмездно передавать секретную информацию. С Фуксом была установлена конспиративная связь через представителя советской военной разведки Урсулу Кучински, под агентурным псевдонимом «Соня». Вскоре он получил английское подданство и его начали привлекать к особо секретным работам. Клаус начал передавать в советское посольство копии своих научных разработок и другие представляющие интерес документы. От него узнали о том, что в Англии велась разработка метода разделения изотопов урана и о строительстве завода для этой цели в Уэльсе. Фукс сообщил, что такие же исследования проводятся в США и что обе страны сотрудничают в создании атомной бомбы.
В Англии работала «кембриджская пятерка» – ядро агентурной сети созданной советским разведчиком Арнольдом Дейчем еще в 30-х годах. В ее состав входили люди, занимавшие различные должности в министерстве иностранных дел Англии, в ее военной разведке, службе безопасности МI5 и даже советника короля Георга VI. В Швеции, Финляндии и Норвегии агентурная сеть и резидентура была не менее многочисленна, чем во Франции и Италии, и этот огромный объем добытой информации поступал в специальное подразделение научно-технической разведки, где он дешифровался, обрабатывался, анализировался и регулярно предоставлялся лично Сталину Меркуловым или Фитиным.
Информация о работах по созданию атомной бомбы в Германии вызывала беспокойство и заставляла Сталина постоянно думать о реальной опасности применения немцами такого оружия. Несмотря, что атомный проект фашистов был тщательно засекречен, перед Новым годом нашим разведчикам удалось добыть показания очевидца первого испытательного атомного взрыва, произведенного немцами на острове Рюген. Свидетелем являлся шведский инженер, чудом сбежавший от гестапо на родину и скрывающийся в Стокгольме под чужой фамилией. Именно об этом сегодня докладывал Меркулов, оставшись в кабинете Сталина после заседания ГКО.
– Как Вы считаете, товарищ Меркулов? – спросил Сталин, – можно верить этому шведу?
– Да, товарищ Сталин, – рапортовал нарком госбезопасности, вытянувшись в струнку, – он инженер-строитель, участвовал в сооружении испытательного полигона на острове Рюген и видел взрыв чудовищной разрушительной силы, одномоментно уничтоживший все строения полигона, танки и две тысячи военнопленных, привезенных туда немцами. От всего этого остался только искорёженный металл и пепел….
– Но все это с его слов, – возразил Сталин, – какими фактами и доказательствами Вы располагаете?
– Фотоснимками итальянского военного корреспондента, побывавшего на острове после того, как немцы вывезли оттуда секретную лабораторию и оборудование, – ответил Меркулов, предоставляя из папки фотоснимки на обозрение Сталину, – посмотрите, это факт, который невозможно оспорить!
– Вы не считаете это фотомонтажом? – спросил Сталин, взяв в руки снимки.
– Никак нет, товарищ Сталин! – отрапортовал Меркулов, – наши эксперты провели исследование, подтверждающие их подлинность.
– А какова должна была быть дальнейшая судьба этих снимков? – спросил Сталин, – ведь этот корреспондент делал их для газеты?
– Он погиб по пути с острова, судно, на котором он плыл, торпедировала немецкая подводная лодка, – ответил Меркулов, – это произошло уже после того, как нашему агенту удалось добыть эти снимки.
– А что по этому поводу сообщает наш резидент, внедренный в англо-американскую миссию «Алсос»? – спросил Сталин.
– Пока ничего! – ответил Меркулов, – остров Рюген еще находится на немецкой территории, куда миссия не может добраться по понятным причинам….
– Хорошо! – прервал его Сталин, – будем считать, что это пока неподтвержденные сведения. Как только получите информацию от второго независимого источника, примем это за факт. Но снимки впечатляют! В любом случае необходимо предусмотреть, чтобы наши войска опередили союзников и взяли остров Рюген при первой возможности. Можете быть свободны! …Да, Вас я тоже приглашаю на праздничный ужин в Кунцево, постарайтесь не опаздывать!
– Служу Советскому Союзу! – отчеканил Меркулов и вышел из кабинета Сталина.
Внешней разведке СССР было известно, что миссией «Алсос» (что означает «Роща») называлась операция, которая проводилась американскими спецслужбами в рамках «Манхэттенского проекта» на территориях Италии, Франции и Германии, занятой союзническими войсками. Ее целью являлся оперативный сбор информации о тайном ядерном проекте фашистов, поиск запасов руды и обогащенного урана, немецких ученых-ядерщиков, в том числе и в концлагерях, с принудительным привлечением их в Манхэттенский проект. Для этой работы американцы образовали специальную группу, одной ее половиной были профессиональные разведчики, а второй ученые-ядерщики.
Сталин тоже проявлял большой интерес к немецким специалистам-атомщикам с привлечением их к работе по созданию советской атомной бомбы. По его указанию для их поиска на территории Германии, занимаемой советскими войсками, уже в декабре 1944 года начали формировать специальную поисковую группу Энормоз из офицеров-разведчиков и ученых, которые должны были носить полковничью форму. В группу «ряженых» зачислили будущих академиков Арцимовича, Кикоина, Харитона, Щелкина. Аналогично миссии «Алсос», наши разведчики, ориентируемые учеными-физиками, должны были вести сбор информации о тайном ядерном проекте фашистов, поиски расчетов, чертежей, лабораторий, запасов руды и обогащенного урана, немецких ученых-ядерщиков с привлечением их в советский атомный проект.
Седьмого января 1945 года к Сталину в его приемную в Кремле явился Молотов с просьбой срочно принять его. Поскребышев не мог пропустить наркома, так как у вождя в это время был Берия с докладом по атомному проекту. Молотов долго ждал, и когда от Верховного Главнокомандующего вышел Берия, с ехидцей поздоровался с ним и проследовал в кабинет. Отделанные дубом и карельской березой стены, диван, кресло, письменный стол, телефонные аппараты, вращающаяся этажерка, книги на ней, настольная лампа и портреты Маркса, Энгельса и Ленина на стенах, действовали на Молотова магически, вселяли страх перед Иосифом, которого его окружение называло когда-то панибратски Кобой.
– Товарищ Сталин, срочная телеграмма от премьер-министра Великобритании Черчилля! – отчеканил Молотов, который держал в руках пакет запечатанный сургучом.
– Открывай, читай! – приказал Сталин, набивая трубку табаком.
Молотов сорвал сургучные печати и извлек из пакета лист бумаги с текстом телеграммы.
– Телеграмма номер 383, – начал вслух читать Молотов, – личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину! На Западе идут очень тяжёлые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине. Если он ещё не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причём лишь при условии сохранения её в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным! Подпись – Уинстон Черчилль
Сталин внимательно слушал Молотова, раскурил трубку и, поднявшись, сосредоточенно прохаживался по кабинету. Молотов ждал реакции и продолжал стоять с телеграммой в руках.
– Что Вы скажете по поводу этой телеграммы? – спросил Сталин, – мне кажется, что господин Черчилль чем-то напуган.
– В переводе с дипломатического языка, – отвечал Молотов, – эта телеграмма означает крик о помощи! Я бы перефразировал ее так: «Нас бьют! Маршал Сталин, спасай!»
– Я прикажу сейчас Поскрёбышеву срочно собрать заседание Государственного комитета обороны, чтобы обсудить наши дальнейшие действия в связи с просьбой премьер-министра Великобритании!
Спустя час, Молотов вновь зачитывал телеграмму Черчилля на заседании Государственного комитета, на которое вновь был приглашен Меркулов. Он скромно сидел последним в ряду за длинным столом и поеживался от ощущения скованности.
– Товарищ Василевский, готовы ли мы выполнить просьбу Черчилля? – спросил Сталин, – я имею в виду раньше начать запланированное нами на 20 января Висло-Одерское наступление?
– Для этого потребуется время, – ответил начальник Генерального штаба, – нужна хотя бы неделя, чтобы срочно подтянуть тылы! Я думаю, что не ранее числа 12 января можно будет начать….
– Хорошо! – констатировал Сталин, – так и определимся, 12-го января начнем наступление! …Но мне непонятна паника союзников, ведь на сегодняшний день наступление гитлеровцев в Арденнах провалилось! Так, товарищ Меркулов?
– Так точно, товарищ Сталин! – отчеканил вскочивший на ноги Меркулов – по нашим сведениям уже 3 января англо-американские войска от мелких контратак перешли в полномасштабное наступление на немецкие позиции.
– Тогда мне лично непонятно, почему господин Черчилль в панике? – спросил Сталин, – еще на Тегеранской конференции он настраивал президента Рузвельта не пускать Красную Армию в Европу! А сегодня сам просит о ее крупном наступлении. По нашим расчётам в результате этой операции мы выйдем на подступы к Берлину, что противоречит стратегии самого Черчилля. Я попрошу Вас, товарищ Меркулов доложить Государственному комитету разведывательные сведения по Арденнскому наступлению немцев, пусть каждый знает, что произошло на втором фронте у наших союзников!
– По донесениям резидентов, – начал Меркулов, – американское командование заранее готовилось к отражению наступления противника в Арденнах! Оно расположило мощные мобильные группировки своих войск к северу и к югу, а в Арденнах намеренно ослабило оборону, дислоцировав там 28-ю и 106-ю пехотные дивизии. Эйзенхауэр расставил ловушку для гитлеровцев, провоцируя их наступление. Все произошло именно так, как он рассчитывал – 16 декабря танковые дивизии СС пошли в наступление. Погода стояла облачная, и это временно сводило на нет превосходство союзников в воздухе. Немцы рвались к реке Маас, но уже 24 декабря у многих частей танковых армий СС закончилось горючее, а прояснившееся небо позволило союзникам ввести в бой авиацию. На следующий день стало понятно, что немецкое наступление потерпело крупное поражение, хотя немцы прорвались почти на 100 км на запад! Американские войска атаковали их своими мобильными группировками 1-й и 3-й армий с флангов, поставив противника под угрозу окружения.
Утром 1 января в рамках операции «Боденплятте» около тысячи немецких самолётов нанесли внезапный удар по аэродромам союзников во Франции, Бельгии и Голландии. В налете участвовали новые реактивные истребители Мессершмитт-262. В результате было уничтожено 305 и повреждено 190 самолётов союзников, значительно разрушены взлетно-посадочные полосы и материально-техническая часть аэродромов. Но и для Люфтваффе итог операции был крайне тяжёлым, от действий авиации и зенитных расчетов союзников было потеряно 292 самолёта, при этом погибло 143 лётчика, ещё 70 пилотов попали в плен.
1 января немецкие войска вновь перешли в наступление, но уже в Эльзасе в районе Страсбурга с целью отвлечения сил союзников, но это были уже удары локального характера, проводимые небольшими силами. Сегодня немецкие войска практически отброшены на исходные рубежи!
– Судя по вашей информации, – заметил Сталин, когда Меркулов закончил доклад, – повода не только для паники, но и какого-либо беспокойства по этому поводу у Черчилля нет! Он ни дурак и ни паникер! Вывод напрашивается сам – или Черчиллю приснился кошмар или ваши сведения, товарищ Меркулов, не соответствуют действительности…. У кого из членов комитета будут мнения по этому вопросу?
Присутствующие молчали, все уже привыкли, что инициатива принятия решения оставалась за Сталиным. Каждый ждал его резюме, посматривая, как вождь прохаживается у длинного стола, дымя своей трубкой и хитро щуря глаза.
– Ну, если вопросов нет, – резюмировал Сталин, – то я надеюсь, что выражаю общее мнение, поручив товарищу Меркулову в ближайшие дни провести дополнительно разведку и подготовить доклад! Предложения есть?
В ответ снова последовало молчание членов Государственного комитета обороны, и Сталин завершил его заседание. Спустя еще полчаса, он пригласил к себе Поскребышева и продиктовал ему ответ на телеграмму Черчиллю:
«№384
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ.
Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.
К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.
Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.
7 января 1945 года Верховный Главнокомандующий, маршал И. В. Сталин»
По пути в Кунцево Иосифа Виссарионовича не покидала тревога, он не мог сосредоточиться, садясь в машину. Это состояние вождя было замечено генералом Власиком, который всегда сопровождал его кортеж, следуя впереди в своем автомобиле. Начальник охраны поинтересовался самочувствием вождя, но тот отмахнулся от вопроса, пробурчав в ответ что-то невнятное. В салон рядом с водителем Сталина садился охранник Туков, которого коллеги в шутку называли «пулеуловителем». Он имел привычку дремать в автомобиле и Сталин, обладающий чувством юмора, часто делал Тукову замечания в форме шуток. Но в этот раз, он молчал всю дорогу с безразличием глядя на дремлющего охранника.
Сталин пытался понять причину паники Черчилля. Он вновь анализировал ситуацию, возникшую у союзников еще в марте 1944 года, задолго до открытия второго фронта. Тогда Меркулов предоставил Верховному Главнокомандующему донесение, полученное от одного из наших глубоко законспирированных резидентов, полностью объясняющих возникшую ситуацию и меры предосторожности, предпринимаемые военным руководством США и Великобритании:
«У военного руководства США и Великобритании возникли подозрения, что немцы очень продвинулись в своих работах по расщеплению ядра атома урана и опасаются применения «грязных бомб» против Англии и США, содержащих радиоактивные вещества. Серьезно оценивается опасность создания немцами зараженного ими барьера против союзных войск. Наиболее вероятным направлением считается получение плутония, а также возможности в процессе его производства образования в реакторах колоссального количества высокорадиоактивных продуктов деления. Союзниками рассматривается вероятность заражения значительной части территории этими продуктами и катастрофических потерь живой силы при открытии второго фронта.