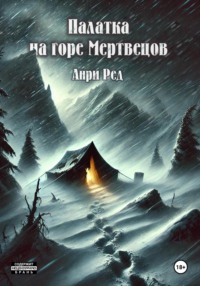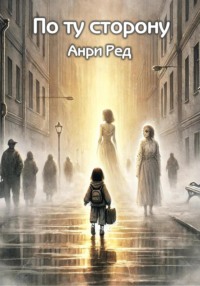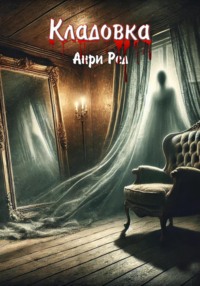Полная версия
Там, где тьма

Анри Ред
Там, где тьма
Глава 1. Воскресное утро Никифора Петровича
(24 июля 1898 г.)
Никифор Петрович был в лесу, но не в том, где пикники и самовары, а в другом, мокром, тесном и чужом. Сосновые ветви сидели низко, точно чёрные пальцы скрюченных рук, и они цепляли полы его сюртука, добротного, купеческого, с воротовой подкладкой. Он бежал, но бег получался тихим, как у гимназиста, крадущегося после полуночи в родительский дом. Под ногами пружинил мох, редкие корни скрипели, будто натянутые струны дедовских часов, и где-то рядом, за столетними стволами деревьев, раздавались хлюпающие звуки шагов.
Он не понимал, что происходит. Как он здесь оказался, но чувство ужаса сковывало его по рукам и ногам. Он присел за валуном, покрытым лишайником цвета прогнившего серого сукна, припал щекой к сырой поверхности и задержал дыхание. Лес дышал вместо него, ровно, глубоко, по-звериному. В этом чужом дыхании было что-то, отчего во рту становилось солоно, как после морской воды или слёз. Что за шаги?.. Тьма ведь не ходит. Но что тогда там?
Он, лысеющий сорокалетний господин в вицмундире от Шармера и ботинках, начищенных ваксой с яичным желтком, вдруг ощутил себя мальчишкой с Галерной гавани, мелким, виноватым и прикрытым лишь пуговицами да маменькиной молитвой.
Когда тишина упала, как мешок с мукой, он вдруг услышал у самого уха грубое, влажное, пахнущее грибами и медью… чужое дыхание. Пауза… ровно на два удара сердца, в которую поместилось слово «поздно», проскрежетавшее словно ржавый металл. Он рванулся, но тело оказалось чужим и… сон лопнул, как мыльный пузырь над Невой.
В спальне было светло и в воскресном смысле уютно, разреженный свет, прошедший через кружево занавесок, обнявший пыль на карнизе и прижавшийся к золотистой раме иконы в углу. За перегородкой пищал младший, кто-то из средних спорил за деревянного коня, старшая дочка шептала что-то, пытаясь кого-то унять. Мария Сергеевна, супруга, уже поднялась, её шаги, узнаваемые по осторожной, хозяйской мерке, двигались к кухне. Часы на камине показывали без пяти девять. Воскресное утро боролось с домашним шумом, как приличный господин с уличной пылью.
– Батюшки-с… – сказал Никифор Петрович, не вслух, а так, для себя, снимая остатки сна, как паутину с лица. Он провёл ладонью по лбу и посмотрел на слегка влажную ладонь. В висках ещё барабанил толчками пульс и то чужое дыхание… Он всё ещё слышал его в сознании. И, что странно, пахло чем-то лесным, хотя окно плотно закрывала белая кисея.
Дом их на Васильевском был устроен правильно, столовая на свет, детская рядом и спальня, выходящая окнами во двор, где по утрам кричали дворники и басовито заседали голуби. Фабрика на другом конце города, фарфор не любит суеты, любит терпение и выверенность. Это кропотливое дело и было тем, чем он занимался. Никифор Петрович тем самым кормил семью. Мария Сергеевна, красивая, тихая, с осанкой гимназистки, четверо ребятишек и всё это казалось логичным, устойчивым, как ряд тарелок, поставленных на ребро в сервизе.
Кухарка Авдотья подала завтрак немного торжественнее, чем в будни. Омлет с зеленью, жареные ломтики телятины, сметанный соус, свежие баранки и в самоваре крепкий байховый чай, который Мария Сергеевна привозила из лавки на Большом проспекте. На столе красовались узоры скатерти и лёгкие тени от буфета. Никифор Петрович сел, положил салфетку на колени и почувствовал, как возвращается его обычный мир… Фарфор мелодично звякнул, чай выдохнул ароматным паром, ложечка крутанула маленькую воронку и тот лес и чужое дыхание отступили в даль, где им и место.
– Мария, душа моя, – сказал он ровно, без особой торжественности, – у меня сегодня назначена встреча. Люди с Урала, покупатели. Давно просились, да всё вразнобой. Теперь едут сами. Надо обсудить партии к Рождеству.
Мария Сергеевна кивнула, чуть опустив ресницы, показав тем самым, что услышала, приняла к сведению и складывает в общий порядок дня. Она умела не задавать лишних вопросов до поры, и за это Никифор её ценил. За многое ценил в том числе за то, что рядом с ней мир держался в привычном ему укладе.
– Переговоры могут затянуться, – добавил он и поднял взгляд. – Вечером не жди. Уральцы люди обстоятельные, да и… – он сделал неопределённый жест ладонью, – купцы любят после дела ещё и чай распить, побеседовать.
– Разумеется, – мягко сказала Мария. – Я распоряжусь насчёт ужина для детей. Возвращайтесь, когда будет можно. Авдотья, подай варенье.
Слово «уральцы» встало как нужный камушек в стене, который установлен на свое место и держал всю легенду его слов. Только сам Никифор знал, что за этим камушком таится тёплая и манящая тень Катеньки.
Катенька писала неровным, чуть прыгающим почерком: «В воскресенье. Музыкальный вокзал*. В три часа по-старому под павильоном. Снимем домик. Не опаздывайте. Ваша, Е.» Ей было двадцать пять, и всё в ней было ещё до степени легкомыслия живым. Её смех раздавался раньше, чем появлялась она сама, лёгкий и цветочный запах духов после неё, оставался чуть дольше. Он познакомился с ней на выставке изделий кустарных артелей, когда она задержала пальцы на фарфоровом козырьке сахарницы, словно проверяя температуру, и сказала: «Он тёплый». Тогда он впервые подумал, что фарфор может быть живым не только в печи.
Озерки манили как легко устроенная ложь, куда легко выехать, легко объясниться и легко утонуть в летней толпе. Музыкальный вокзал, сад, оркестр, всё на виду, и при этом никто ни за кем не следит. План был прост, аккуратен и, казалось, безупречен: утренний завтрак, слова про «уральцев», выезд после полудня под предлогом осмотра партии в Песках, встреча с Катенькой у павильона на Озерках, вечер на веранде под музыку, домик на ночь у третьего озера и возвращение к понедельнику, будто из купеческой драмы.
Дети хозяйничали вокруг варенья. Средняя дочь, Агния, спросила про лодки на озёрах.
– Когда подрастёшь, покатаемся, – с улыбкой ответила ей Мария.
Никифор поймал на себе внимательный взгляд старшего сына, тот уже умел складывать два и два, но пока не знал, что именно складывает. И тут же, как будто в знак договорённости с судьбой, в окно забарабанил дождь: короткий, летний, обещающий свежесть. Он будет к вечеру, подумал Никифор, как раз к музыке, на мокрой доске веранды блеснёт отражение ламп, и Катенька скажет, наклоняя голову: «Как будто всё это – для нас».
После завтрака он прошёл в кабинет, открыл сейф, переложил в портфель договоры и счета, на случай если придётся внезапно играть роль до конца. Положил туда же визитные карточки и пустой телеграфный бланк – алиби, на всякий случай. На секунду задержал пальцы на сундуке-каталоге с образцами посуды, где уютно расположился белый, тонкий, как бумага, фарфор, который легко позванивал как детские колокольчики. Но нет, это будет лишнее.
В прихожей пахло кожей и сушёной мятой. Он нащупал шляпу, накинул лёгкий плащ, ведь облака всё ещё паслись где-то над Лиговкой. Перед выходом Никифор задержался у зеркала и взглянул на свое отражение. Хоть он и был в летах, но выглядел вполне сносно, только лоб был чуть больше, чем хотелось бы и виски с сединой, зато глаза бледно-голубые, сверкали задором и целеустремленностью. Лицо, которому верят кладовщики и присяжные, подумал он и сам себе кивнул.
– Если кто придет и будет справляться обо мне, передайте, что буду в понедельник… – на автомате сказал он Авдотье и ушёл, пригладив воротник, как человек, готовый к долгому и важному дню.
На улице дребезжала пролетка, где-то ворчал ранний трамвай. Город, как и он, собирался в путь. А где-то за городом, между соснами, над чёрной водой, которой летом казалось тесно в своих границах, оркестр уже репетировал свои партии на вечер.
Он не заметил, как опять прислушался к дыханию. Но в солнечном просвете двора оно растворилось, словно ничего не бывало. И всё же… На самой кромке сознания шевельнулась та пауза, в которую помещалось слово «поздно».
Никифор Петрович встряхнул головой и выскочил со двора, он тут же поймал экипаж, который, как и многие другие был невзрачный, с потертым кожаным верхом, пахнущий дегтем и конской сбруей. Лошадь, вороная, с белой звездочкой на лбу, нетерпеливо била копытом по каменной мостовой, будто отмеряя секунды до долгожданной встречи.
Винная лавка встретила Никифора звоном колокольчика и густым ароматом дубовых бочек. За прилавком, под почерневшей от времени иконой, дремал приказчик, его бородка клинышком подрагивала в такт храпу.
– Две бутылки "Абрау", – сказал Никифор, постучав костяшками пальцев по деревянному прилавку.
– Будет сделано, – на удивление быстро вскочив на ноги отрапортовал приказчик. Спустя минуту бутылки завернули в серую оберточную бумагу, шуршащую, как осенние листья под ногами, и перетянули шпагатом, который впивался в пальцы, оставляя красные полосы.
Кондитерская Штольца манила сладкими ароматами ванили и какао. Он купил коробку "Шоколадных медальонов", ведь Катенька обожала эти конфеты с терпкой начинкой из крыжовенного желе, залитого горьким шоколадом. Коробка, обтянутая шелковистой бумагой, согревала его руки, словно живое существо.
Домой возвращаться он не собирался. Записка от Катеньки, тот узкий треугольник бумаги с неровными, словно взволнованными буквами “обжигал” внутренний карман сюртука. "В три. У павильона…"
Никифор достал новые карманные часы "Мозер" на цепочке, которые показывали десять тридцать пять. Стрелки блестели, как мокрые весла в лучах утренней зари.
Отойдя немного от магазина, он поймал извозчика.
– Куда вам, сударь? – спросил кучер.
– На Финляндский вокзал, – бросил он извозчику, когда тот обернулся, сверкая медной бляхой на поясе.
Кучер – рыжий, веснушчатый, с глазами, как две медные копейки – рассмеялся, обнажив желтые зубы:
– Какое утро, барин! Прямо шепчет: займи да выпей!
После чего подмигнул, явно давая понять, что слышал звон бутылок в сумке.
Никифор улыбнулся уголком рта, чувствуя, как теплая волна предвкушения разливается по телу:
– Так выпей после работы. Чай не бедствуешь извозом?
– Да я, ваше благородие, извозом для души занимаюсь… А так, лавочку свою имею на Нижней Рогатке, – засмеялся кучер, поправляя шлею.
– Ну тем более, – сказал Никифор и откинулся на спинку сиденья.
Петербург проплывал мимо, сверкая и переливаясь. Дамы в кринолинах, похожие на распустившиеся пионы, в их руках кружевные зонтики, защищающие от настырного солнца их белоснежные лица. Мальчишки с гиканьем гоняли обруч, их голоса звенели, как крики чаек наперебой. У ларька с ситцами купчиха в парчовой кофте, красная от гнева, орала на приказчика, грозясь свести его в участок. Жандармы в киверах, важные и неподвижные, как памятники, лениво поправляли эполеты, наблюдая за суетой.
Воздух был густым и насыщенным, в букете ароматов пахло горячими сайками из пекарни Филиппова, конским навозом с мостовой и свежей краской от перил, которые красили к какому-то празднику.
"Вечер обещает новое", – подумал Никифор, вдыхая полной грудью этот коктейль запахов, чувствуя, как сердце бьется чуть быстрее, он чувствовал себя не на сорок, а лет на двадцать моложе.
Раньше их встречи с Катенькой укладывались в два часа прогулок и всегда проходили в людных местах, у Летнего сада, где шепот влюбленных тонул в шуме фонтанов, в Пассаже, среди зеркал, отражавших их тайные взгляды, на катке, где их руки соприкасались под предлогом поддержки.
Теперь же ее слова висели в воздухе, как недопитый бокал шампанского, обещая нечто большее: "Снимем домик".
Финляндский вокзал был наполнен гомоном и запахом машинного масла, смешанным с ароматом жареных каштанов. Под массивными чугунными арками, украшенными витиеватыми узорами, гудели голоса, звенели бубенцы носильщиков, скрипели тележки с багажом.
Он купил билет до Озерков – розовый, с водяными знаками, хрустящий, как новый червонец. На перроне толпился разный люд – женщины с корзинами, из которых выглядывали кочаны капусты и мотки разноцветной шерсти, дети, привязанные к родителям веревочками, как воздушные шары, готовые улететь при первом порыве ветра, старик в соломенной шляпе, несущий клетку с чижиком, который заливисто пел, будто торопясь рассказать всем свою историю.
Поезд тронулся с протяжным свистом, напоминающим вздох усталого великана. Город поплыл за окном, как декорации в театре – сначала каменные фасады с высокими окнами, затем деревянные бараки с огородами, где сушилось белье, и, наконец, зеленая лента леса, манившая своей прохладой и тайной.
Рельсы запели ровную песню, убаюкивающую, как колыбельная. Мысли улеглись, словно волны после шторма, оставляя лишь приятное предвкушение.
Станция "Озерки" встретила его ароматами смолы, мокрого песка и жареных тыквенных семечек, которые продавали в маленьком ларьке у выхода. От платформы к павильону вела крытая деревянная галерея, выкрашенная в голубой цвет, настил, выгоревший на солнце, с протертыми половиками, по которым ступали тысячи ног до него.
Этот курорт построили в семидесятых годах девятнадцатого века, и с тех пор, уже пару десятилетий, на пороге двадцатого столетия, он манил горожан своей простой и непритязательной красотой. Между Нижним Большим Суздальским и Средним озёрами, сверкающими, как два сапфира, поставили эстраду с резными колоннами, где по вечерам играл оркестр, танцевальный зал с зеркальными стенами, отражавшими кружащиеся пары, и буфет, где подавали мороженое в вазочках, тающее на языке, как первый снег.
Никифор ступил на мостки, почувствовав, как доски под ногами, влажные от утренней росы, слегка пружинят. Вода под ним была темной, с маслянистыми разводами, отражающими небо, как старое зеркало.
В воздухе висели обрывки музыки – скрипки пробовали вальс, их звуки смешивались с шепотом листьев и смехом детей, купающихся у пирса.
“День складывается правильно”, – подумал он, ощущая в сумке приятную тяжесть вина, которое сегодня вечером они откупорят с Катенькой.
Где-то в глубине, под ребрами, что-то прислушивалось к его шагам, затаив дыхание. Он этого не заметил, увлеченный своими мыслями и предвкушением встречи.
Впереди было три часа – целая вечность и мгновение одновременно. В коробке, аккуратно завернутой в шелковистую бумагу, лежал шоколад, темный и горький, как его тайные желания.
"Надо бы справиться на счет домика", – подумал Никифор и бойко зашагал вдаль за озеро, где сквозь стену вековых стволов, просматривались стройные ряды низеньких домиков.
А Озерки дышали вокруг хвоей и медом, смешиваясь с запахом горячего песка и далеких гроз, обещая летний вечер, полный страсти и тайн.
Глава 2: Вечер на Озерках
Никифор Петрович без труда нашел смотрителя домиков – плечистого старика в выцветшей поддевке, с медной бляхой на груди и вечно мокрыми от усердия усами.
– Сутки – три рубля, – бУхнул тот, не глядя, вытирая ладони о свои видавшие виды брюки.
– Два с полтиной, – автоматически сказал Никифор, хотя прекрасно знал, что сторгует максимум на четвертак, но хотелось снизить цену, насколько это было возможно.
Старик фыркнул, но глаза у него заблестели, торговля была его стихией.
– Ну-с, с вас два восемьдесят, господин хороший, – вздохнул он, делая вид, что сдается.
– Два шестьдесят, – стоял на своем Никифор, чувствуя, как в груди разливается странное, почти детское удовольствие от этого ритуала.
В конце концов сошлись на двух семидесяти, ровно столько, сколько Никифор и рассчитывал отдать.
Домик №7 оказался аккуратным, с резными наличниками и верандой, затянутой марлей от комаров. Внутри пахло свежей краской и сосновыми досками. Две узкие железные кровати, комод с жестяным тазом, керосиновая лампа под абажуром – все как он и представлял.
Он оставил на комоде бутылки, аккуратно завернутые в серую бумагу, и коробку конфет, которая теперь казалась ему каким-то волшебным артефактом, ключом к предстоящему вечеру.
Часы показывали начало третьего. До встречи – целый час.
Тропинка вилась между сосен, то поднимаясь, то опускаясь, будто застывшие морские волны. Сквозь редкие деревья просвечивала гладь Большого озера, темная, чуть морщинистая от легкого ветерка.
По воде скользили лодки – тяжелые, широкие, с отдыхающими в соломенных шляпах. В купальнях, этих деревянных клетушках на сваях, плескались дети, их визг долетал сюда приглушенным, как птичьи переливы.
Никифор шел не спеша, чувствуя, как солнце греет ему спину через тонкую ткань сюртука. Он был счастлив таким простым, почти детским счастьем, когда кажется, что весь мир устроен именно для твоего удовольствия.
Воспоминания текли плавно:
Училище коммерческих наук на Офицерской. Первая должность – помощник бухгалтера у купца Полежаева. Потом своя доля в "Товариществе Редминых". Знакомство с Марией на вечере у Безобразовых, где она тогда играла "Лунную сонату", и клавиши под ее пальцами казались живыми…
Пятнадцать лет брака. Четверо детей. Дом на Васильевском. Фабрика за Невской заставой. Все как у обеспеченных людей – ровно, правильно, надежно.
И вот – Катенька.
Он знал ее всего полгода – с той выставки кустарных промыслов, где она любовалась его фарфором. Двадцать пять лет, курсистка, живет с подругой на Греческом проспекте. В ней не было ни расчетливости, ни жеманства – только эта странная, почти звериная жизненность, с которой она смеялась, говорила, дышала.
Он и не думал бросать семью – боже упаси! Это было бы безумием. Но эти редкие встречи… Они давали ему ощущение, будто он снова двадцатилетний, будто вся жизнь еще впереди.
Так, в своих думах Никифор добрался до конца озера.
Музыкальный вокзал встречал его громом медных инструментов.
Это было странное сооружение, не то парковый павильон, не то временный дворец. Построенный в семидесятых, он напоминал гигантскую деревянную шкатулку с резными колоннами, стрельчатыми окнами и террасой с видом на озеро.
Внутри кипела жизнь.
В центральном зале под высоким потолком кружились пары – офицеры в белых кителях, дамы в кринолинах, гимназисты с горящими глазами. В буфете звенели рюмки, пахло пирожками с вишней и дорогими духами. На эстраде военный оркестр выводил "Амурские волны", и медные трубы сверкали, как золото на солнце.
Никифор прислонился к колонне, наблюдая за этим карнавалом. Здесь, в этом шуме, среди чужих лиц, он чувствовал себя невидимкой и это было прекрасно.
Часы в кармане тикали, отсчитывая последние минуты до встречи.
Где-то за спиной скрипнула дверь.
Он обернулся.
– Никифор Петрович, вот вы где!
Ее голос прозвенел, как колокольчик над лавкой кондитера. Он обернулся, но она уже летела к нему, соломенная шляпка с васильками съехала набок, шелковая пелерина развевалась, как парус.
– А я всё гадала, соизволите ли вы приехать и составить мне компанию в этом чудном месте!
Она бросилась в объятия, и он, поколебавшись мгновение, ведь вокруг было сотни чужих взглядов, всё же обнял её, ощутив под ладонями тонкий стан, перехваченный корсетом.
– Катенька…
Она звонко чмокнула его в щёку, прямо как гимназистка кадета и тут же отпрянула, схватив за руку.
– Как вы добрались? Как ваше самочувствие? Какой чудный день! Может, на лодке покатаемся?
Голова у Никифора слегка закружилась, то ли от её безостановочного щебета, то ли от запаха её духов с букетом герани, фиалки и чего-то ещё, сладкого, как земляничное варенье.
Но он не сопротивлялся. Сегодня он хотел плыть по течению во всех смыслах этого слова.
У пристани лодочник в засаленном картузе тут же подскочил к ним:
– Пожалуйте, барин! Шлюпка новая, весла ясеневы, гребца приставить могу – Иван, мужик трезвый, грести умеет…
– Спасибо, обойдёмся, – отрезал Никифор, внезапно возмутившись самой мыслью о постороннем глазе.
Катенька прыгнула в лодку ловко, как котёнок, едва качнув её. Он же ступил осторожнее, всё-таки фарфоровый купец, а не моряк.
Пять минут спустя он уже мысленно проклинал свою гордость.
Руки – эти белые, привыкшие к конторским счетам, ныли, как после смены на фабрике. Весла казались свинцовыми. Но сдаться? Перед юной леди? Ни за что.
Она сидела напротив, запрокинув голову, ловя солнце ресницами, и время от времени бросала на него восхищённый взгляд:
– Ах, Никифор Петрович, как вы сильно гребёте!
"Сильно" – это она загнула, конечно. Но приятно.
Большое озеро, такое ласковое с берега, оказалось коварным. Посередине, где ветерок крепчал, вода стала тёмной, почти чёрной. Лодку слегка покачивало.
Через пятнадцать минут он, наконец, сложил вёсла, пряча дрожь в руках.
– Устали? – Катенька склонила голову, как птичка.
– Пустяки…
Он подсел к ней, робко обнял за плечи. Шёлк пелерины скользил под пальцами.
– Никифор Петрович… – она вдруг притихла, что для неё было редкостью. – Какие у нас на сегодня планы? Мы ведь первый раз остаёмся одни… вдали от всего мирского.
Сердце у него ёкнуло, то ли от восторга, то ли от страха.
– Катенька, зачем загадывать? – он замялся, гладя её руку. – Давайте просто… проведем сегодня время, не думая ни о чем. У нас есть чудный домик, где ждет сюрприз.
Она тут же оживилась:
– О-о-о! Сюрприз? – она захлопала в ладоши. – Я так люблю сюрпризы! Но… – вдруг надула губки. – Я хотела бы на вечерний концерт! Говорят, сегодня будет военный оркестр и фейерверк!
Он вздохнул, но внутренне даже обрадовался отсрочке.
– Конечно, душа моя. Сюрприз подождёт.
Они плавали до самого вечера. Катенька болтала без умолку, то и дело опуская ладонь в воду, чтобы брызнуть на него. Он отшучивался, ловил её пальцы и думал, что, пожалуй, счастлив.
В ресторане "Озерки", где ажурная веранда над водой, скатерти с кистями, официанты в белых перчатках – он сегодня не скупился и заказал, стерлядь по-царски (рубь двадцать), раков по-финляндски с укропом и томлёным в сливках огурцом (семьдесят пять копеек), бутылку "Шато Лафит" (три рубля сорок).
Катенька, раскрасневшаяся, пробовала всё с удовольствием:
– Ах, Никифор Петрович, да вы меня совсем избалуете!
Он улыбался, поправляя салфетку на коленях, и ловил на себе взгляды других мужчин – завистливые, оценивающие.
К восьми они подошли к концертной площадке. Уже собирался народ: дамы под зонтиками, офицеры с биноклями, детишки, жующие пряники. На эстраде настраивали инструменты.
И тут он почувствовал – лёгкое, как паутина, прикосновение к затылку. Чужой взгляд.
Он обернулся.
За спиной был лес. Между стволов мелькнула тень, но кто или что там было он не разглядел.
И вдруг, откуда-то из глубин памяти всплыло то самое дыхание из сна. Холодное. Влажное.
Но тут грянули трубы, и видение растворилось в первых аккордах "Вечернего звона".
Катенька вскрикнула от восторга и потянула его за руку.
Он больше не оглядывался.
Сумерки опускались на Озерки медленно, словно нехотя. Концерт лился волшебными звуками. Трубы пели так, что у Никифора по спине пробегали мурашки, а скрипки плакали, будто вспоминая что-то давно утраченное. Два часа пролетели как один миг.
Когда отзвучали последние аккорды, толпа взорвалась аплодисментами. И спустя минуту все ахнули. Над озером взметнулись первые огни фейерверка. Искры кружились на «крутилках», рассыпаясь золотыми дождями, одиночные огоньки взлетали ввысь, растворяясь среди звёзд. Озеро отражало это сияние, и казалось, будто небо опустилось под воду, выглядывая из глубин, а земля парила в бесконечности.
Концерт закончился. Люди потянулись к выходу, кто к железнодорожной станции, где уже гудел паровоз, кто по тропинкам вдоль озера, к дачам и домикам. Керосиновые фонари, подвешенные на крючьях, отбрасывали неровные круги света, и в их мерцании лица прохожих казались то призрачными, то вдруг оживающими.
Никифор почувствовал, как сердце его забилось чаще. Катенька стояла рядом, слегка нахмурившись, будто решала какую-то сложную задачу в каком направлении ей идти.
– Душа моя, – сказал он твёрдо, подставляя ей руку, – составьте мне компанию в это чудное время. Давайте прогуляемся.
Она заколебалась, потом робко взяла его под руку, и они пошли вдоль берега.
Никифор Петрович облегченно выдохнул.
Тропинка вилась между дач – нарядных, с резными ставнями и верандами, увитыми диким виноградом. Время от времени им встречались другие пары, тоже неспешные, тоже шепчущие что-то друг другу под звуки леса и ночного озера.
Но чем дальше они шли, тем реже попадались люди. А вдоль тропинки, между редкими домами, начинался лес, тёмный, густой, точно такой, как в том утреннем кошмаре.
Никифор старался не смотреть в его сторону.
Они уже прошли половину пути, болтая о пустяках, когда в свете фонаря он вдруг различил идущую навстречу пару.