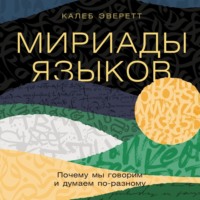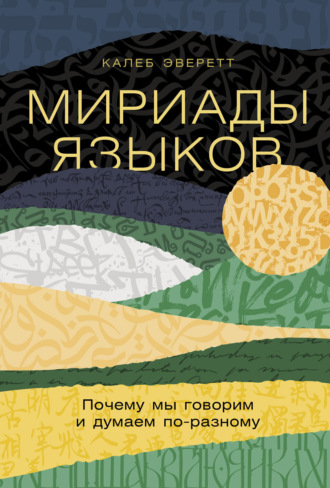
Полная версия
Мириады языков: Почему мы говорим и думаем по-разному
Как ни парадоксально, языковые открытия, о которых пойдет речь, появились на фоне текущего упадка мирового разнообразия языков и культур. По некоторым оценкам, нынешнее столетие переживут лишь 600 языков в мире, то есть менее 10﹪. Медианное количество носителей языка – всего около 10 000, и в мире существуют сотни языков, на которых говорит не больше, а то и меньше, 100 носителей. Подобные цифры свидетельствуют о нынешнем вымирании языков, которое происходит, когда молодые носители языков немногочисленных народов переходят на главенствующие, более полезные экономически языки, например английский. Осознание этого процесса вымирания заставляет многих ученых исследовать исчезающие языки, пока они еще существуют. Многие из этих языков бесписьменные и не задокументированы, что делает их изучение неотложной задачей для полевых лингвистов. Массовое вымирание продолжается по большей части беспрепятственно, в силу набора социально-экономических факторов, на которые не способны повлиять усилия по сохранению языков, при всех благих намерениях. Таким образом, мы находимся на захватывающей стадии жизни нашего вида – эфемерном перекрестке, который большинство не замечает. Мы стоим на пересечении двух траекторий: роста признания когнитивного и языкового разнообразия среди человеческих популяций и неуклонного снижения того самого языкового разнообразия, которое привело к этому осознанию. К несчастью, неотвратимое исчезновение большинства языков, по всем данным, – единовременный отлив, который гораздо мощнее, чем любые усилия ему противостоять. Хотя труды полевых лингвистов, безусловно, не способны удержать на месте уходящую воду, они служат тому, чтобы добывать из этих вод невероятные образцы, показывать их другим и вместе восхищаться. В этой книге мы рассмотрим некоторые из этих образцов и покажем, какую важную роль они играют в нашем понимании того, как действительно говорят и думают люди[9].
Сколько бы ни было на самом деле обозначений снега у эскимосов, мне в это снежное утро становится ясно, что у меня их не так много. Я выхожу из кофейни и быстро направляюсь в свое следующее укрытие, подземное, чтобы сесть в метро. Свежевыпавшие снежинки отчетливо хрустят под ногами. Но слово «снежинки» не очень-то подходит теперь, когда снег скопился на тротуаре. Сделав еще шаг против победного бурана, я заключаю, что снег, по которому я иду, по-видимому, больше не qana. Полагаю, теперь он aput.
1. Будущее позади вас
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. Эти домены времени выглядят столь фундаментальными для жизни, чуть ли не осязаемыми, по крайней мере когда мы становимся взрослыми. В детстве мы начинаем понимать, что три этих основных компонента временно́й последовательности отражаются в языке, на котором мы говорим, и что глаголы принимают различные формы в зависимости от того, когда происходит действие. Мы узнаем, что высказывания типа I jumped 'я прыгнул' делаются тогда, когда действие произошло в прошлом. То есть мы узнаем, что суффикс -ed добавляется к глаголам, чтобы сообщить слушателю, что нечто уже случилось. Англоговорящему ребенку приходится также усвоить, что, отсылая к будущему прыжку, он должен сказать что-то вроде I will jump, или чаще I'll jump, или Ima jump. Эти условности представляют собой серьезную проблему для ребенка или взрослого, обучающегося английскому; непросто научиться регулярно передавать прошедшее, настоящее или будущее время событий. Еще больше осложняет дело то, что обучающиеся английскому должны уяснить, что эти глагольные маркеры времени часто меняют глагол «не по правилам». Им приходится запоминать, например, что прошедшее время от глагола eat 'есть' – ate. Как нередко бывает с опытом изучения языков, эти особенности порой могут сводить с ума.
Подобные особенности на лексическом уровне, возможно, заслоняют более фундаментальное знание о грамматическом времени, которое мы приобретаем, становясь носителями языка. Мы понимаем, что существуют прошедшее, настоящее и будущее. Когда мы осваиваем английский в детстве, предполагается, что мы также узнаем, что эти конкретные временны́е категории вообще существуют, что они чуть ли не осязаемы или по крайней мере что это базовые категории, к которым нам следует апеллировать по умолчанию, поскольку так устроено время. Наш язык способствует овеществлению этих абстрактных категорий времени. В конце концов, прошлое, настоящее и будущее – размытые понятия, не воспринимаемые конкретно, так, как, например, вы воспринимаете физическое пространство вокруг своего тела. Вы не можете вернуться в прошлое или доказать его существование, протянув руку и коснувшись его, в отличие от объекта вашей физической среды. А будущее, по существу, никогда и не наступает. Между тем настоящее неуловимо, так как любой осознаваемый нами момент оказывается в прошлом к тому времени, когда мы его осознаем. Тем, что категории прошлого, настоящего и будущего кажутся нам естественными, мы во многом обязаны языку. В этой главе мы убедимся, что некоторые аспекты времени, воспринимаемые нами, носителями английского, столь «естественно», могут показаться неестественными носителям других языков. Это не означает, что мы действительно переживаем время уникальным образом. Но лингвистические данные предполагают, что мы концептуально членим время определенными способами под влиянием языка, на котором говорим, и что говорящие на других языках, если они хотят полноценно овладеть ими, должны научиться воспринимать другие временны́е категории – не обязательно прошлое, настоящее и будущее – как базовые. В этой главе речь пойдет о нескольких способах, которыми, согласно различным направлениям исследований, языки отражают и потенциально влияют на то, как по-разному люди думают о времени.
Время физическое и грамматическое[10]
Начнем с категории времени. Услышав вопрос, почему в английском три грамматических времени, некоторые из моих студентов теряются. Вопрос выглядит нелепым. С их точки зрения, в английском три времени, поскольку их и в реальности три. Английская грамматика указывает на прошлое, настоящее и будущее, потому что так устроено мироздание. На самом деле, однако, существуют другие способы грамматического обозначения времени, и можно утверждать, что прошлое, настоящее и будущее выглядят естественными доменами нашей жизни именно потому, что мы говорим на языке, который членит время по этим параметрам. Поэтому истинная причинно-следственная связь может быть диаметрально противоположна общепринятой – может быть, нашим языком ограничивается наш заданный по умолчанию способ называть время, а возможно, даже мыслить о нем, и вовсе не собственные свойства времени ограничивают наш способ говорить о нем. Опять же, я не предполагаю, что люди на земном шаре физически переживают время заметно разными способами. Утверждение, которое я выдвигаю и которое выдвигали до меня, не столь радикально, но все еще потенциально контринтуитивно: то, как мы говорим о времени в качестве носителей языка, влияет на наше заданное по умолчанию мысленное описание того, как устроено время. Если это утверждение верно – то есть если некая грамматическая характеристика английского влияет на то, как мы концептуализируем временну́ю последовательность, или по крайней мере диктует, как нам говорить о времени, – нам следует ожидать, что не все языки делят время на прошедшее, настоящее и будущее. В действительности многие языки мира не требуют от говорящих отсылать к этим категориям. Прошедшее, настоящее и будущее на самом деле не являются временны́ми категориями в грамматиках многих языков мира, как мы увидим на примере языка, в отношении которого я занимался полевыми исследованиями.
Многое из того, что мы узнали о языках за последние десятилетия, основывается на исследованиях коренных народов по всему миру. Современная лингвистическая полевая работа состоит из разнообразных задач, которые потенциально включают проведение базовых экспериментов и анализ акустических данных для выявления количественных закономерностей. Но в методы подобной работы все еще входят как будто бы очевидные, но обманчиво сложные традиционные подходы – например, сидя вместе с носителем того или иного языка, на котором говорят в отдаленном уголке каких-нибудь джунглей, задавать ему вопросы. В идеале эти вопросы опираются на годы предыдущего изучения лингвистом – в университетских аудиториях и в библиотеках – явлений, заметных во всех языках мира. Таким образом, полевая работа нередко требует простого общения с людьми и записи их речи в отдаленных местностях. Основная часть моей полевой работы проделана на материале языка каритиана (Karitiâna), на котором говорит группа людей в южной части Амазонии. Этот увлекательный язык уже изучался другими исследователями до меня и продолжает изучаться ныне. Около двух лет в середине нулевых, когда я писал диссертацию, мне приходилось работать с носителями языка каритиана, чтобы лучше разобраться в хитросплетениях языка. Иногда полевая работа заключалась лишь в том, что я сидел напротив этих носителей в душной атмосфере Амазонии и задавал им вопросы[11].
Хотя данная конкретная задача может показаться простой, она также психически истощает. Полевые лингвисты практически единодушны в том, что этот вид исследований утомителен, хотя и приносит моральное удовлетворение. Если вы когда-либо пытались учить другой язык во взрослом возрасте, то знаете, как это бывает трудно, даже при наличии в вашем распоряжении книг, примеров на YouTube, текстов ChatGPT и прочих всевозможных полезных инструментов. Это так же непросто и в том случае, когда вы изучаете язык, близкий вашему родному, например, когда носитель английского осваивает немецкий. Описание и освоение неродственного языка без подобных инструментов может стать испытанием. В моем случае мне принесли огромную пользу работы лингвистов-предшественников, в особенности миссионеров, задокументировавших некоторые аспекты языка каритиана. И все же я часто ощущал себя сбитым с толку, словно пытался расшифровать некий код в условиях тропической жары, в окружении полчищ насекомых и других отвлекающих факторов.
Подобная полевая работа может также приводить к моментам просветления, когда вы чувствуете, что взломали код и достигли некоего озарения, которое может оказаться полезным для дальнейшего понимания языка. Так и получилось, когда я стал лучше воспринимать способы обозначения времени в языке каритиана, которые в некоторых отношениях «нетипичны» или не распространены в других языках мира. В частности, незначительная нетипичность языка каритиана в описании времени проявляется в том, как используются в нем грамматические времена, которые мы обычно представляем себе в виде «прошедшего, настоящего и будущего». Возьмем, к примеру, способ прощания на каритиана, когда употребляется выражение, которое буквально означает 'я пойду':
(1) ytakatat-i yn
'Я пойду'
Обратите внимание, что глагол в этом случае – ytakatat, означающий 'я иду'. К глаголу присоединяется суффикс -i, означающий, что названное действие еще не совершилось. А вот фраза, которую используют, чтобы сказать 'я пошел':
(2) ytakatat yn
'Я пошел'
Как вы видите, здесь нет суффикса -i, добавляемого к глаголу. Поэтому можно предположить, что прошедшее время в каритиана обозначается отсутствием суффикса и это своего рода начальная форма. Отчасти так и есть, но объяснение рушится, если взглянуть, как в этом языке говорят 'я иду':
(3) ytakatat yn
'Я иду'
Как мы видим, это предложение на каритиана ничем не отличается от 'я пошел'. Причем это не неправильный глагол – можно привести бесконечное множество подобных примеров. То, что мы видим в случае с глаголом «идти», просто иллюстрирует то, как работает базовая система времен в каритиана. Эта система различает события, происходящие в будущем, и те, которые произошли в прошлом либо происходят в настоящем. Таким образом, в плане терминологии каритиана не различает прошедшее и настоящее. Разумеется, его носители все-таки понимают, что одни события происходят сейчас, а другие имели место в прошлом, но, как и некоторые другие языки мира, каритиана использует бинарную систему времен: будущее и небудущее. Когда я перевожу английские (или португальские) предложения на каритиана, мне приходится втискивать три времени в два. И наоборот, когда носитель каритиана осваивает португальский (как они в большинстве своем и делают), ему приходится усвоить, что португальский разбивает одно из их времен, небудущее, на две категории – прошедшее и настоящее.
Суть здесь не в том, что язык каритиана странен. Хотя во многих языках имеется система из трех времен, как в английском, есть также языки с системой из двух времен; среди них есть и такие, которые противопоставляют «прошедшее/непрошедшее», а не «будущее/небудущее». Необычное ощущение от будущего и небудущего времен в каритиана, возможно, больше говорит о наших собственных ожиданиях того, как устроен язык, вследствие нашего знакомства с трехвременны́ми языками наподобие английского, чем о самом языке каритиана. В целом наше восприятие особенностей неродственного языка неизбежно обусловлено спецификой языка или языков, на которых мы говорим хорошо, – факт, о котором полевым лингвистам приходится помнить. В своих ожиданиях особенностей любого языка мы стремимся опираться на то, что знаем о языке намного в более широком смысле, а не на свой родной язык. В конце концов, родным языком полевых исследователей обычно является индоевропейский язык WEIRD-народов.
Не все языки используют только два или три различных времени. В некоторых грамматическое время отсутствует, в других – времен больше трех. Рассмотрим другие варианты в этом многообразии. В китайском языке (пекинском диалекте) обычно отсутствуют приставки и суффиксы, поэтому технически глаголы не изменяются по временам. Но в китайском есть другие слова, потенциально обозначающие время. Более удачные примеры безвременны́х языков – юкатекский майя, бирманский, парагвайский гуарани (отдаленно родственный каритиана) и некоторые другие. Вот образец предложения из юкатекского майя, не имеющего времен, как показывает неоднозначность его английского перевода:
(4) túumben lenaho'
'Дом был / есть / будет новый'
Здесь глагол, служащий сказуемым, túumben, означает 'быть новым' и ставится в начале предложения – в обратном порядке по сравнению с английским переводом. Ключевой пункт здесь в том, что это майяское предложение не меняется: это не зависит от того, был ли данный дом когда-то новым, является новым только сейчас или будет новым в будущем. Это типично для безвременно́го языка[12].
На другом конце временно́го спектра находятся языки, где времен больше трех. Возможно, самый крайний случай – амазонский язык ягуа с восемью временами. Пять из них связаны с тонким членением прошедшего. Имеется «отдаленное прошедшее» время, еще одно время для обозначения событий, имевших место от месяца до года назад, третье – для обозначения событий, которые произошли от недели до месяца назад, четвертое – событий, произошедших неделю назад, а пятое – событий, имевших место вчера или сегодня до момента говорения. Там есть также настоящее время и отдельные времена для обозначения событий, которые должны вот-вот случиться, а также событий, ожидающихся в более отдаленном будущем. Рассмотрим два примера:
(5) sadíí-siymaa
'Он умер (от недели до месяца назад)'
(6) sadíí-tíymaa
'Он умер (от месяца до года назад)'
В этих примерах слово sadíí означает нечто вроде 'он умирать'. Различные суффиксы позволяют нам приблизительно узнать, когда это произошло. Эти суффиксы отражают лишь два из пяти прошедших времен в языке ягуа. В других языках меньше различий относительно того, когда событие имело место в прошлом, но больше различий относительно того, когда оно будет иметь место в будущем.
Этих нескольких примеров достаточно, чтобы показать, насколько языки различаются в плане того, как их грамматика описывает, «когда именно» произошло событие. Эта грамматика требует или не требует от говорящего употреблять морфемы – значимые части слов, такие как суффиксы и приставки, а также вспомогательные глаголы, – описывая, когда имело место событие относительно момента говорения. Даже языки, в которых такое требование есть, могут различаться в плане временны́х категорий, к которым апеллирует их система времен.
Так как языки настолько различны в плане грамматического выражения течения времени, справедливо задаться вопросом: что, если носители языков и думают о времени по-разному? Например, считают ли носители языка каритиана, что прошлое и настоящее темпорально ближе друг к другу, чем думают носители английского, ведь их язык описывает соответствующие действия как события небудущего? Ответ на такой вопрос получить трудно – он требует тщательных экспериментов, которые непросто провести вне лабораторий. Некоторые когнитивные психологи, вероятно, скептически отнесутся к идее, что подобные грамматические различия оказывают значимое влияние на внеязыковое восприятие времени человеком. У людей, как и у других животных, есть древние биологические и нейробиологические механизмы восприятия временно́й последовательности сходными в общих чертах путями. И все же эта биологическая однородность не подразумевает, что подобные языковые различия не оказывают абсолютно никакого влияния на различение времени. Как мы убедимся в последующих разделах этой главы, уже появились данные, что различные способы, которыми языки передают время в областях вне грамматических времен, оказывают тонкое воздействие на восприятие времени их носителями. Поэтому, безусловно, возможно, что межъязыковые различия грамматических времен имеют некое когнитивное влияние на носителей соответствующих языков.
Разумеется, недостаток данных не всегда мешает ученым строить догадки и гипотезы и из того, что некоторые языки не имеют грамматических времен, делать далеко идущие выводы. Самый знаменитый пример, на котором основывалось много домыслов, – язык индейцев хопи. В наши дни на хопи говорит около 6000 человек. Резервация хопи расположена на пустынном плато на северо-востоке Аризоны и окружена более обширной резервацией навахо. Она находится всего в нескольких часах езды от Феникса по федеральной трассе 17, если ехать от пустыни Сонора вглубь пустынной местности. Когда вы подъезжаете к резервации, показываются более высокие столовые плато, или mesas. Хопи живут на этих mesas как минимум с конца XVII в., когда сражения с испанскими поселенцами вынудили их отступить в нынешние места обитания. Рыжеватый ландшафт mesas и резкая сухость воздуха составляют предельно возможный контраст с зеленой влажной средой, в которой обитают каритиана. Тем не менее при поездке в места проживания хопи меня поразили некоторые сходства между двумя культурами. Подобно каритиана и многим другим группам носителей вымирающих языков, обитающим в разнообразных экологических условиях по всему миру, хопи веками были вынуждены вести изолированное и довольно нищенское существование. Как и у каритиана и многих других таких групп, подспорьем для их хозяйства служит продажа артефактов местной культуры туристам, проезжающим через их отдаленную резервацию или мимо нее. Многие хопи так же, как и многие каритиана, активно сохраняют свое языковое и культурное наследие. Хотя только на хопи в настоящее время говорят всего лишь десятки человек, некоторые сохраняют беглое владение языком, одновременно зная и английский. Многие каритиана тоже билингвы и хорошо говорят на португальском, и билингвизм подобных популяций позволяет им поддерживать жизнь родного языка в условиях, когда они вынуждены взаимодействовать с окружающими их экономически господствующими одноязычными популяциями.
В начале XX в. лингвист по имени Бенджамин Уорф тоже проезжал через резервацию хопи. Бо́льшая часть его знаний о языке хопи была получена в Нью-Йорке от жившего там носителя этого языка. В ходе своих исследований Уорф пришел к некоторым радикальным выводам о том, как носители хопи описывают течение времени и, что более спорно, как мыслят о нем. Исследования Уорфа в конечном итоге привели его к гипотезе, что языки оказывают сильное воздействие на внеязыковое мышление их носителей. Не хочу возвращаться к этой гипотезе, а также ко множеству споров, которые она вызвала в прошедшие с тех пор десятилетия в таких областях, как лингвистика, антропология и философия. Но стоит вернуться как минимум к одному знаменитому утверждению Уорфа:
Я нахожу безосновательным допущение, что хопи, владеющий только языком хопи и культурными идеями своего общества, имеет те же самые понятия, которые часто считаются интуитивными, о времени и пространстве, что и мы, и которые обычно считаются универсальными. В частности, у него нет понятия или интуитивного представления о времени как о ровном текучем континууме, в котором все во вселенной происходит в одинаковом темпе, от будущего через настоящее к прошлому… После долгого и тщательного анализа выяснилось, что язык хопи не содержит слов, грамматических форм, конструкций или выражений, напрямую выражающих то, что мы называем временем, или прошлое, настоящее и будущее[13].
После работы Уорфа некоторые лингвисты задокументировали способы, которыми язык хопи в действительности позволяет своим носителям выразить время. Другие – например, психолог и лингвист Джон Люси из Чикагского университета – считают, что подобные опровержения бьют мимо цели и оглупляют позицию Уорфа насчет отражения времени в хопи[14]. Как бы то ни было, трудно утверждать, что хопи выражает категории прошедшего, настоящего и будущего так же последовательно, как язык типа английского. Влияют ли, и если да, то насколько, подобные кросс-лингвистические различия грамматики времен на общее восприятие людьми времени – это вопрос, который еще не решен. Ясно, однако, что языки – будь то английский, хопи, ягуа или каритиана – различаются в плане того, как они кодируют время, требуя от людей концептуально по-разному членить его в момент речи. И, как мы увидим в следующем разделе, безусловно, существуют данные, что другие языковые различия, связанные с кодированием времени, помимо грамматических времен, действительно порождают несходства в том, как люди мыслят о времени, даже когда они не говорят. Эти языковые различия связаны с различными метафорами времени, которые повторяются в некоторых, но не во всех языках.
Где находится время?
Хотя остается неясным, насколько различия грамматических времен отражают реальное восприятие людьми физического времени или влияют на него, очевидно, что носители разных языков думают о времени по-разному. Несмотря на то что люди могут переживать время примерно одинаково, разные популяции используют разные когнитивные стратегии, чтобы осмыслить течение времени, и эти стратегии обычно лингвистически кодифицируются и, таким образом, влияют на тех, кто осваивает язык впоследствии. Например, даже словосочетание «течение времени» (passing of time) – выражение, специфичное для английского, имеющее аналоги во многих, но, безусловно, не во всех языках, – кодирует определенный пространственный способ осмысления времени. «Течение времени» изображает время так, словно оно движется сквозь нас или мы движемся сквозь него, хотя ни одна из этих возможностей не реализуется в буквальном, физическом смысле. Мы не движемся сквозь время, а оно – сквозь нас. Наша стратегия изображения времени через пространственно-двигательные выражения типа «течение времени» в своей основе метафорична. Соответствующая метафора вовсе не является языковой универсалией. В каритиана, к примеру, не говорят о «течении» времени.
Порождают ли различные метафоры времени различия в том, как люди членят время, даже когда они не вербализуют подобные метафоры? Вокруг этого вопроса ведутся споры, но в настоящий момент наилучший ответ прост: да. Более сложный вопрос: имеют ли особое значение лингвистически и метафорически мотивированные различия в том, как люди разных культур концептуализируют время в повседневной жизни. В этом разделе я постараюсь дать вам представление о концептуальных различиях, проистекающих из лингвистических различий в метафорах времени. Что, однако, более важно, я буду стремиться подчеркивать тот простой и не столь спорный факт, что открытия, совершенные в таких местах, как Амазония, Новая Гвинея и Анды, существенно перестроили современные дискуссии когнитивистов о человеческом понимании времени.
Однако, прежде чем анализировать соответствующие лингвистические данные, пожалуйста, проведите простой эксперимент. Для него понадобятся три маленьких предмета, например три ручки (хотя вы также можете провести его с какими угодно воображаемыми объектами). Поместите одну из ручек на плоскую поверхность перед собой, скажем, на стол. Пусть эта ручка изображает «день», так как с этим понятием знакомы все человеческие культуры. Теперь возьмите другую ручку – это у нас будет «закат». Положите «закат» на ту же поверхность, что и «день», но так, чтобы он оказался в положении «позже», чем «день». Наконец, третья ручка будет изображать «ночь». Разместите эту ручку так, чтобы все три ручки, изображающие «день», «закат» и «ночь», находились в логической последовательности – от «раннего» к «позднему». Здесь нет правильной последовательности, но возможна последовательность, которая представляется наиболее естественной. Если вы подобны большинству носителей английского языка, эта естественная последовательность будет той, в которой «день» окажется слева от «заката», а «ночь» справа. Этот порядок изображает время так, будто оно движется слева направо. У этой пространственной проекции хода времени есть очевидная культурная и лингвистическая мотивация: направление, в котором читают носители английского. Когда вы читаете эти строки, будущие моменты чтения в любой данный момент существуют справа от точки фиксации вашего внимания, а прошлые моменты чтения – слева от нее. Направление чтения – один из многих связанных с языком факторов, влияющих на то, как мы думаем о течении времени. Читатели на языках, на которых пишут слева направо, обычно упорядочивают объекты, репрезентирующие моменты времени, тоже слева направо. Еще чаще они располагают время так, словно оно движется слева направо, на базовых символических изображениях хода времени, например на календарях и хронологических шкалах. Тот, кто читает на таких языках, как арабский и иврит, на которых пишут справа налево, в заданиях вроде того, что я вам дал, обычно использует противоположный порядок[15].